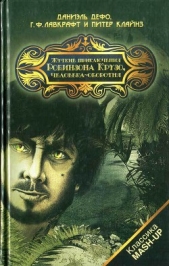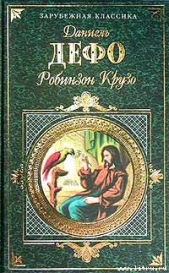Тропик любви
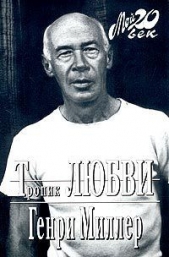
Тропик любви читать книгу онлайн
Книга Генри Миллера «Тропик Рака» в свое время буквально взорвала общественную мораль обоих полушарий Земли. Герой книги, в котором очевидно прослеживалась личность самого автора, «выдал» такую череду эротических откровений, да еще изложенных таким сочным языком, что не один читатель задумался над полноценностью своего сексуального бытия… Прошли годы. И поклонники творчества писателя узнали нового Миллера — вдумчивого, почти целомудренного, глубокого философа. Разумеется, в мемуарах он не обошел стороной «бедовую жизнь» в Париже, но рассказал и о том, как учился у великих французских писателей и художников, изложил свои мысли о мировой литературе и искусстве. Но тут же, рядом — остроумные, лишенные «запретных тем» беседы с новыми друзьями: бродягами, наркоманами, забулдыгами, проститутками…
Перевод выполнен по первому изданию: Big Sur and the Oranges of Hieronimus Bosch. New York, New Directions, 1957.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вместе с осенью пришли дожди. Подниматься к шоссе по крутой козьей тропке позади дома стало почти невозможно. После сильного шторма в результате оползней все дороги были завалены камнями и деревьями. Несколько дней я жил, как на необитаемом острове. Потом неожиданно приехала Нэнси забрать кое-какие вещи. В тот же день обратным рейсом она возвращалась в Афины. Поддавшись порыву, я решил ехать с ней.
В Афинах было сухо и, вопреки ожиданию, жарко. Словно мы опять вернулись в лето. Временами с окружающих гор принимался дуть ветер, холодный, как лезвие ножа. Часто по утрам я ходил к Акрополю. Больше самого Акрополя мне нравилось его подножие. Нравились развалюхи, беспорядок, размытая почва, архаичность пейзажа. Археологи разворотили все вокруг; они навалили горы земли, перебранной в поисках остатков древней жизни, которые потом упрячут в музеи. Подножие Акрополя все больше и больше напоминает кратер вулкана, где любящие руки археологов обнажили кладбища искусства. Туристы увлажнившимися глазами смотрят на эти руины, на уложенную по всей науке лавовую кладку. Живых греков, находящихся рядом, не замечают или относятся к ним как к досадному недоразумению. А меж тем новые Афины занимают почти всю долину и постепенно взбираются на склоны окружающих гор. Для страны с населением всего в семь миллионов такой город, как новые Афины, — явление феноменальное. Этот город еще переживает муки рождения: он еще угловат, стеснителен, неловок, неуверен в себе; он страдает всеми детскими болезнями и по-юношески меланхоличен и скорбен. Но он выбрал великолепное место, где ему расположиться; залитый солнцем, он сияет, как драгоценный камень; ночью он сверкает миллионом мерцающий огней, вспыхивающих и гаснущих с быстротой молнии. Это город потрясающих воздушных эффектов: он не зарывается в землю — он плывет в постоянно меняющемся свете, пульсирует в такт хроматическому ритму. Он заманивает, заставляет идти за бесконечно отступающим миражем. Когда приближаешься к окраине, к громадной стене гор, свет завораживает еще больше; такое ощущение, что можешь в несколько гигантских прыжков взлететь по склону, а там — почему бы нет, раз уж ты на вершине, — разбежаться, как сумасшедший, и полететь вперед, в синеву и — вечный аминь. На Священной Дороге, [440] идущей от монастыря Дафни к морю, я несколько раз оказывался близок к помешательству. Я и впрямь бросался бежать вверх по склону, но останавливался на полпути, объятый ужасом, не понимая, что на меня нашло. По одну сторону — камни и кустарник, отчетливые до микроскопических подробностей; по другую — деревья, какие видишь на японских гравюрах, деревья, тонущие в свете, одурманенные, деревья Кибелы, которые, должно быть, были посажены богами в момент пьяного экстаза. По Священной Дороге нельзя ездить на машине — это святотатство. Надо ходить пешком, как ходили в древние времена, так, чтобы все твое существо наполнилось светом. Эту дорогу проложили не христиане, ее протоптали ступни верующих язычников, направлявшихся на инициацию в Элевсин. Эта артерия, по которой двигались процессии, не связана ни с мученичеством, ни со страданиями, ни с истязанием плоти. Теперь, как столетия назад, все здесь говорит о царствии света, слепящего, радостного света. Здешний свет обладает сверхъестественным свойством: это не просто свет Средиземноморья, но нечто большее, нечто непостижимое, нечто священное. Здесь свет проникает прямо в душу, распахивает двери и окна сердца, и ты, нагим, незащищенным, отрешенным от всего, погружаешься в метафизическое блаженство, в котором все становится ясным без всякого знания. В этом свете невозможен никакой анализ: невротик здесь или окончательно исцелится, или сойдет с ума. Сами горы давно безумны: столетиями они стоят, подставив головы этому божественному сиянию, — стоят неподвижно и спокойно, упершись в обагренную кровью землю, окруженные танцующим разноцветным кустарником, но они безумны, говорю я, и, прикоснувшись к ним, рискуешь потерять веру во все, что когда-то мнилось прочным, массивным, устойчивым. Сквозь это ущелье нужно проскользнуть со всей осторожностью, нагим, без свидетелей и забыв всякий христианский вздор. Нужно отбросить два тысячелетия невежества и предрассудков, отвратительной, омерзительной тайной жизни и лжи. В Элевсин должно входить, содрав с себя все ракушки, которые наросли за столетия пребывания в стоячей воде. В Элевсине понимаешь, если не понял раньше, что спасение не в том, чтобы соответствовать спятившему миру. В Элевсине начинаешь соответствовать Космосу. Внешне Элевсин может показаться конченым, не имеющим ничего общего с прошлым, обращенным в развалины; на самом же деле Элевсин и поныне стоит невредим — это мы кончены, рассеяны, обращаемся в прах. Элевсин живет, живет вечно посреди умирающего мира.
Человек, который уловил дух вечности, повсюду присутствующий в Греции, и вместил его в свои стихи, — это Георгос Сефериадис, пишущий под псевдонимом Сеферис. Я знаком с его поэзией только по переводам, но даже если бы я никогда не читал его стихов, все равно сказал бы, что этому человеку судьбою назначено нести огонь. Сефериадис — самый больший азиат из всех греков, каких я встречал; он родом из Смирны, но много лет жил за границей. Это томный, вкрадчивый человек, полный жизни и способный проявить удивительные силу и ловкость. Он — третейский судья, умеющий примирить один образ мысли и жизни с другим, противоположным. Он сыплет бесчисленными вопросами на уйме языков; он интересуется всеми формами культурного выражения, пробует себя в абстракции, вбирает все подлинное и плодотворное, что дали все эпохи. Он страстно любит родину, свой народ — не как узколобый шовинист, а как человек, терпеливо открывавший ее для себя в годы пребывания вдали от нее. Страстная любовь к родине — отличительная черта грека интеллектуала, живущего за границей. В других людях она выглядит, на мой взгляд, отвратительно, но у грека она, я считаю, оправданна, и не только оправданна, но еще и волнует, вдохновляет. Помню день, когда мы с Сефериадисом отправились взглянуть на участок, где он хотел построить себе бунгало. Участок ничем особым не выделялся — даже, я бы сказал, слегка смахивал на пустырь. Во всяком случае, на первый взгляд. Однако Сефериадис не дал шанса моему первому беглому впечатлению утвердиться; оно съеживалось, как медуза под разрядами электрического тока, по мере того как он водил меня по участку, слагая поэмы травам, цветам, кустам, скалам, глине, склонам, откосам, бухтам, заливам и прочая, и прочая. Все, на что падал его взгляд, все это была Греция, какой он не знал, пока не покинул свою страну. Он мог взглянуть на мыс и прочесть в нем историю мидийцев, персов, дорийцев, минойцев или обитателей Атлантиды. Еще он мог прочесть в нем фрагменты поэмы, которую мысленно дописывал на обратном пути домой, одновременно задавая разные каверзные вопросы о Новом Свете. Его привлекал Сивиллин характер всего, на что падал его взгляд. Он умел видеть вперед и назад, заставлять предмет, о котором задумывался, поворачиваться и показывать все свои многообразные грани. Говоря о вещи, человеке или происшествии, он будто облизывал его, пробовал на вкус. Порой он напоминал мне ослепленного любовью и экстазом дикого кабана, который сломал клыки, яростно атакуя соперника. В голосе его слышалась обида, словно предмет его страсти — его любимая Греция ненароком и неуклюже исказила пронзительный его вой. Сладкозвучного азиатского соловья не раз и не два заставлял умолкнуть неожиданный удар грома; его стихи все больше и больше уподоблялись самоцветному камню, становясь компактнее, сжатее, искрометнее и откровеннее. Его природная гибкость отвечала космическим законам криволинейности и завершенности. Он перестал двигаться в разных направлениях: его строфы совершали круговое движение объятия. Он достиг зрелости всеобщего поэта — страстно пустив корни в почву своего народа. Всюду, где сегодня существует живое греческое искусство, в основе его — этот Антеев жест, эта страстная любовь, которая перетекает от сердца к ступням и побуждает к росту сильные корни, превращающие тело в древо неотразимой красоты. Культурное превращение подтверждается физическим свидетельством — масштабными мелиоративными работами, ведущимися по всей стране. Турки в своем жгучем желании довести греков до окончательного обнищания превратили землю в пустыню и кладбище; греки, с момента освобождения, прилагали огромные усилия, чтобы озеленить землю. Козел отныне становится национальным врагом. Со временем он будет изгнан, как был изгнан турок. Он — символ нищеты и бессилия. «Деревьев, больше деревьев!» — слышится крик. Дерево — это вода, корм для скота, сам скот, плоды; дерево — это тень, отдохновение, песня, это поэты, художники, законодатели, мечтатели. Сегодня Греция, некогда голая и бесплодная, — единственный рай в Европе. Когда возродят ее былое зеленое великолепие, она превратится в нечто, превосходящее воображение сегодняшнего человека. Все может произойти, когда в этом благословенном месте закипит новая жизнь. Возрожденная Греция способна совершенно переменить судьбу всей Европы. Греции не нужны археологи — ей нужны лесоводы. Зеленеющая Греция может вселить надежду в мир, чья сердцевина поражена гнилью.