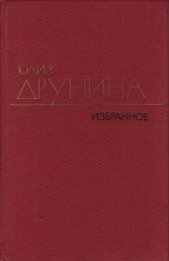Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е

Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е читать книгу онлайн
Вторая книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)», посвященных 1960–1980-м годам XX века. Освобождение от «ценностей» советского общества формировало особую авторскую позицию: обращение к ценностям, репрессированным официальной культурой и в нравственной, и в эстетической сферах. В уникальных для литературы 1970-х гг. текстах отражен художественный опыт выживания в пустоте.
Автор концепции издания — Б. И. Иванов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я вышел и вынес орде на прощание тихое теплое слово напутствия:
— Рубильники! Раннюю смерть от удара по лбу принимаю наградой счастливого случая. Мне ваша свора — до Гулькина…
Лошади, выслушав, оторопели, заржали душевно, попадали навзничь, а пешие всадники — молча крошили себя палашами.
Так и закончилась эта неравная сеча вничью.
Кстати, министрам отставка была на сей раз обеспечена. Взял я, конечно, верховную власть и не первое красное лето красиво хожу в аксельбантах, а кто такой Гулькин, ей-ей, не знаю. Хочешь, ответствуй мне, чем он известен. Или твои плодородные думы снова куда-то на поиски вечного духа далёко направлены? Дух — это мистика. Лучше про Гулькина — что за персона.
Послушай, тебе наденут аркан, и дух у тебя под овчиной мгновенно покинет обноски трусливого тела. Вот и вся вечность. Или ты не согласен?
Я чую, тебе не по вкусу мой звон отклонения в исповедь. Я раздражаю тебя, да? Не нравится, может, еще моя внешность? А моя власть у тебя вызывает икоту с испуга? Не нравится внешность и власть?
Я внешне похож, это знаю, люблю, на хорошую связку бананов. Опух и свиреп. А свиреп — от угодников и подхалимов. Я только снаружи маленько свиреп, а в интиме души — часто писаюсь.
О власти слова запомни.
Приятственна всякая власть, если, конечно, располагаешь ею.
Таковы, Карлик, истины, до которых умельцу рукой падать, если, конечно, рука твоя длинная.
Что? Снова прищучил я тебя? Как я прищучил? А как и раньше. Когда ты на дереве был и свалился. Мы с этим еще разберемся потом, отчего ты свалился, какая была твоя тайная цель опорочить идею.
Глянь-ка сюда — сто томов!..
У меня сто томов, я писал их один, они толстые-толстые все, ты завидуешь!..
Ах, это, по-твоему, чушь? Это — количество, не переходящее в якобы качество? Что, что, что? Кому там известны какие три случая, когда получаются толстые книги? Давай раскрывайся последними картами, как и когда, почему получаются толстые книги взамен афоризма. Ну, первый? Первый, когда продолжительно долго доказывают именно то, чему сами не верят? Интересное рассуждение — плохо, что длинное тоже. Второй случай жду, не тяни кошку за кишки. Стало быть, это — когда на душе ни копейки таланта что-то сказать и сказать, увы, нечего, вот и льют они жижу на пустоши каждой типично раздутой страницы тщеславия? Мне твоя партия мыслей до Гулькина, понял? Я золотое перо поколения, понял? Я совесть его проходимцев, основатель, утеха. Кто графоман, опосля разберемся.
Чем я, гляди, не Сократ?
А теперь еще сбоку гляди — не Платон?
И возвращайся на круги своя в отведенную камеру — там обезьяне комфорт и кроссворд.
Или — нет! Я сейчас уши заткну войлоком, а ты свое мнение снова сбреши. Впустую, конечно, глухому, но как у тебя сгоряча всего-навсего мыслей за целый день остается там узенькая полоска поперек одинокой страницы, поделись опытом.
У меня самого вихрь идей постоянно присутствует, а ты вот узенькую полоску намысливаешь едва-едва за день.
Ибо лентяй.
Вспомни-ка, много-много писать и писать — это похоже, по-твоему, на переедание?
Далее что насулил, еще помнишь? Я чье перо? Мыши летучей перо, по-твоему? Как, уже не перо? Тогда кто? Скоробей? Спасибо — вручил аттестат!..
Изыди… Не слышу, впрочем…
Деревня Шнурки мыкала время в ущелье — на дне.
Пятнистый клочок обозримого неба давал ей прожиточный свет и тепло на дальнейшее благополучие. Солнце кривыми лучами туда проникало кривыми путями.
Вокруг ущелья, где, мыкая время, думали думы Шнурки, разросся, раскинулся лес и лежала большая равнина. Пенаты людей, вероятно, разумнее было бы располагать именно там, а не в яме. Но суеверные жители, боясь эпидемий, не селятся на сквозняке.
Ни бабы, ни мужики Шнурков еще не постигли науку цифири, но меру вещам они знали нисколько не хуже нашего брата.
Пенаты с удобствами для продолжительной жизни деревня себе собирала хоромоподобные. Кормила-поила деревня себя делово без опеки товарного внешнего рынка, который своей конъюнктурой туда не проник и доныне. В амбарах и на чердаках у хозяина каждого дома стоит ароматический дух изобилия всяческой снеди. Лен и редиска под окнами каждого дома росли сообразно потребностям, а шкурная кожа домашней скотины шла после выделки на производство гармоний.
Сообразно потребностям огонь и железо для кузниц они добывали себе воровством у вулкана — дряхлый вулкан оказался ничейным, однако пока не погасшим.
Утром июльское вёдро манило крестьян обрести напряжение мускульной силы, где человек и природа на редкость едины. Стояла пора сенокоса. В эту нелегкую пору порухи зеленого верха жуки, земляные красавцы, панически между корнями растений трясутся, что всю популяцию, всех их отловят, отловят и скоро сожрут оснащенные косами хищники. Напрасно трясутся. Пора сенокоса — грибная пора. Шампиньоны кругом у корней молочая натыканы к употреблению. Поэтому кушать усатое мясо жуков у косца нет охоты.
Косы, как острые молнии, падали вниз и вперед, отсекая пушистую гриву травы, поднимались и падали снова. Звенели, шуршали картавые косы по стеблям. Из этого звоношуршания косы хитрили составить одну задушевную, звонко шуршавшую фразу, которая, кажется, не лишена была смысла, хватавшего за сердце. «Любит — не любит, любит — не любит». Эти слова говорящей косы заглушали собой летний шум и другие шумы на лугу. Сами крестьяне трудились азартно до признаков изнеможения, трудились они до непрошеной боли, которая хуже горчичника жгла в онемевшей спине, трудились они до корявого пота — пота ручьями по брюху. Любит — не любит. Уже пополудни рабочий народ, отдохнувший за время большой передышки, снова бросался косить и потеть, и коса мужику говорила про бабу подначливо: любит — не любит, любит — не любит.
Издерганные, растормошенные ворожбой не по делу, косцы возвращаются в избы страдальчески запоздно. Мужик изощрен и велик убедиться, что струями нежного шепота любит, и как еще любит опорная женщина грубую плоть у тебя до последней морщинки, — любит и как еще любит, а длинная ночка сама потакает ей в этой любви. Не торопись успевать, и балдейте на пару, покудова ночь-серебро не сокроется тихо на поле за лесом.
Однажды среди состоявшейся ночи раздался чужой человеческий вопль из избы старика Балалайкина Борьки.
Ночь эта…
Ночь эта была последней для деревни Шнурки.
С оравой нахалов-единомышленников Илларион инспектировал области, что расположены справа по географической карте, — в этом углу государства таких областей было несколько.
Нахалы конспиративно хромали на костылях и в обмотках, изображая калек обнищавшей среды подворотен. Эх, если бы такого калеку, мечтали нахалы, кто-либо позарился стукнуть!.. Эх, если позарится двинуть ухватом!.. Если позарится, будетулика — разграбим обидчику сад или храм…
Охая конспиративно, стоная с ухмылками, двигалась эта комиссия физиономий гуськом из имперской столицы по некультурному волглому лесу, где только черт-те чего не цвело вперемешку с ягодами росы, похожими на прозрачные бородавки. В однообразии хаоса леса нахалы нашли себе развлечение, считали деревья по сторонам. Уже на четвертой просчитанной тысяче вспыхнула между нахалами склока сомнения. Кто-то назвал окончательной сумму три тысячи двести стволов, а кому-то подобные цифры казались опиской статистики. Три полновесные тысячи плюс еще триста два дерева кряду. Ваши три двести поэтому — вздор, а не лес.
У любого нахала, кого ни возьми, глаза мимосмотрящие. Нахалу присуща размытость оптической точки, нет у него центра тяжести взгляду. Но главное сходство нахалов, — оно здесь и главное свойство нахалов, — оно состояло в отсутствии… Что за чудные слова: состояло в отсутствии?.. Главное сходство нахалов, опять ухожу не туда, состояло в отсутствии нравственной воли на взлет. Или не взлет, а хотя бы подъем ото сна.
Вот идет Икс, а вот — Игрек. Оба в отряде нахалов уже ветераны по всему фронту грызни за пристиж. Оба, неутомимые, неутолимые, по непутевому перебивались из осени в осень обновками на шармака. Ну, например, этот Икс опоясан алмазами виноторговца, какого легально когда-то пугнул острогой по виску. Зато нахал Игрек закончил образование. Чтобы дипломом отличника шибко смутить Икса в отместку за виноторговца, какого тому на поживу послала судьба, нахал Игрек окончил астральные курсы на верхогляда провинции, где перенял у друзей-звездоплетов осанку да легкую поступь, а молодую жену — силком одолжил у зубного врача навсегда.