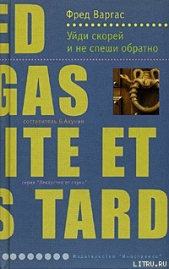Уйди во тьму

Уйди во тьму читать книгу онлайн
«Уйди во тьму» — удивительный по своей глубине дебютный роман Стайрона, написанный им в 26 лет, — сразу же принес ему первую литературную награду — приз Американской академии в Риме.
Книга, которая считается одной из жемчужин литературы американского Юга. Классические мотивы великой прозы «южной готики» — мотивы скрытого инцеста, тяги к самоубийству и насилию, вырождения медленно нищающей плантаторской аристократии, религиозной и расовой нетерпимости и исступленной, болезненной любви-ненависти в свойственной Стайрону реалистичной и даже чуть ироничной манере изложения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он впустил меня в комнату, повернулся ко мне спиной и подошел к мольберту; дверь за мной захлопнулась, я пошла по полу, держа мои часы. Он писал старика. Древний монах или раввин в серых и темно-синих тонах, морщинистый и изможденный, воздел к небу гордые, трагические глаза; позади него были развалины города, разрушенного, опустошенного, горы раскрошенного цемента и камня, блестевшего под светом наполовину спрятанного заржавевшего фонаря, словно в последних, угасающих сумерках Земли. Это было мертвое и забытое место, однако сохранившее известное радужное, неустойчивое величие, и на этом фоне глаза старца гордо смотрели вверх, обращенные, возможно, к Богу, а возможно, просто к заходящему солнцу.
— Чудесная картина, — сказала я.
Он никак не отреагировал, взял кисть и провел серую полосу по разрушенному городу.
— Я считаю, что это замечательно, — сказала я.
Он по-прежнему молчал, продолжая писать, только туфли его заскрипели по полу. Я села на стул и стала за ним наблюдать. А в саду декоративные деревья еле слышно шелестели в душном воздухе; среди листьев шуршали, чирикая, воробьи, а издали доносились крики детей, словно что-то забытое. Я сказала тогда:
— Вернись, дорогой.
Он молчал.
— Вернись, — сказала я. — Прости меня за то, что я наделала.
Он по-прежнему молчал; развалины под его рукой беззвучно приблизились. Он продолжал писать. Я вспомнила про часы, вытащила их из сумки.
— Послушай, дорогой, посмотри на часы, которые я нам купила. Ты всегда жаловался, что те старые часы все время запаздывают. А теперь — смотри.
Он не произнес ни слова.
— Смотри, дорогой, — сказала я, — столько драгоценных камней, и в сохранности. И тут же подумала: «Почему в сохранности, почему?»
Он повернулся, держа в воздухе кисть, с которой упала капля синей краски.
Посмотрел на часы. В тишине мы слышали, как они тикают, а также слышали воробьев, далеких детей.
— Ты купила их в «Мэйси», — сказал он, — и они стоят тридцать девять долларов девяносто пять центов. Верно?
— Да.
— И ты заплатила за них чеком.
— Да.
— И чек взлетел выше воздушного змея, — сказал он, поворачиваясь обратно к мольберту. — Очень благодарен за подарок, за который я заплатил из нашего общего, кавычки, банковского счета, кавычки. То есть бывшего банковского счета: на нем ничего нет.
— Ох, — произнесла я, — ох, — выслушав эти слова, брошенные им через плечо. Я не видела выражения его лица, только слышала его слова — горькие, и гневные, и полные презрения, — и смотрела на часы, которые полетели на землю, и чувствовала себя такой же раздавленной и изуродованной среди отчаянно разъехавшихся, жестоко изуродованных рычажков и колесиков. И тем не менее: — Ох, — произнесла я, — ох. — Затем сказала: — Мне жаль, Гарри, право, жаль. Я не знала. Я купила их в подарок тебе. Я получу какие-то деньги от зайки.
Я была снова спасена: часы ходили, пролетев в пространстве, Гарри и я; «они были на волосок от гибели», подумала я.
— Почему? — сказал он и со злостью повернулся, крепко держа кисть. — Почему, почему, почему? Почему, Пейтон?
— Что — почему, дорогой? — спросила я.
— Почему ты так поступаешь? Намеренно, без малейшего чувства вины? Как ты можешь так поступать?
— Я не знаю, — сказала я. — Я забыла.
— Так ты сказала, твой зайка заплатит за это, — сказал он. — Что ж, хорошо, чтобы кто-то заплатил. Мне пришлось занять у этого осла Берджера, чтобы закрыть чек. Да что с тобой?
— Извини, — сказала я, — больше такого не будет.
— Нет, — сказал он и вернулся к мольберту, — такого, безусловно, больше не будет.
А я прошла мимо него к окну, и внутри снова зашевелился страх. Я не могла ни о чем думать: тихо шелестели листья декоративных деревьев, обращая свою белесую оборотную сторону к умирающему солнцу. По забору прокралась кошка, и женщина, стоявшая, закутавшись в наброшенную на плечи шаль, в саду среди флоксов, и роз, и малиновых цинний, окликнула ее: «Тоби!» Я не могла ни о чем думать, вечер частично уже накрыл тут дорожку, и мне показалось, что я услышала вдалеке гром, но это было что-то другое — поезд подземки, или грузовик, или маловероятные причудливые орудия. И тут я сказала, не подумав:
— Вернись ко мне, Гарри.
За моим плечом послышался голос.
— Чтобы жить втроем? — спросил он. — Это будет премило. Правда, тогда у нас будет бесплатное молоко. Уверен.
И я сказала очень медленно:
— Но неужели ты не понимаешь, дорогой? Тони — это ничто, совсем ничто. Мне очень жаль, право, жаль, и я тебе об этом уже говорила. Я разозлилась на тебя, потому что ты, знаешь ли, был прав. Я действительно зависела от тебя во всем и была избалованным ребенком, и вообще. Но я обозлилась, потому что это была правда, неужели непонятно? И я тебе немножко отомстила, когда ты обиделся и ушел. Жестоко было так поступать, — я знаю, но прости меня…
— Все это ты мне уже говорила, — сказал он, и я услышала, как голос его стал более напряженным, гневным и горьким. — Послушай, Пейтон, я пытаюсь работать, пока еще светло. Почему ты не уходишь?
— Нет, Гарри, — сказала я и повернулась. — У нас могли бы быть дети…
— Эти слезы вряд ли помогут тебе со мной, детка, — сказал он. — Мы могли иметь детей год назад, но вту пору ты заявила, что я такой ненадежный и не смогу быть хорошим отцом…
— Это было в ту пору… — начала было я.
— Это было в ту пору, — сказал он, — когда я понял правду и сказал тебе об этом: ты абсолютно не способна любить. А-а, да к черту все. — Он швырнул на пол кисть. — А теперь не будешь ли любезна… — начал он.
Но я сказала;
— Дети, Гарри, мы могли бы… — Не успела я это произнести, как снова вспомнила одновременно с раздавшимся где-то за стенами, с которых осыпалась штукатурка, под потолком в водяных подтеках, шуршанием нелетящих крыльев. Они явились с песка.
Громко я произнесла:
— Защити… — но не закончила, вторично вспомнив свою вину, о которой я даже Гарри не сказала: о том, как врач безжалостно щупал инструментом, и у меня защипало внутри. — Ох, Гарри, — сказала я, — прости меня за то, что я натворила.
— Защитить тебя от чего? — спросил он. — От молочников, от писателей-детективов?
— Нет, — сказала я, садясь на подоконник, — от меня.
Он смягчился.
— Где ты подобрала свой странный кодекс этики? — сказал он. — Что произошло с тобой? Если бы я мог помнить тебя такой, какой ты была когда-то, это было бы отлично. По крайней мере я мог бы держать себя в руках. Но я не думаю, что я мог бы даже помнить то время. Когда у тебя по крайней мере были идеалы, которые не являлись продуктами мифов или сказок. То время, когда ты была моим эталоном и я был настолько глуп, что говорил себе: девушка с таким прелестным лицом и телом, как у тебя, не может не быть прекрасной и внутри. Что же случилось с тем временем, моя утраченная леди, моя благословенная Беатриче?..
— Не надо, — сказала я, — пожалуйста, не надо так говорить, дорогой.
— Я, видимо, был дураком, — продолжал он, — при всех своих. В душе. Я игнорировал их. Когда ты пилила, и пилила, и пилила меня за мое так называемое внимание к другим женщинам. Когда ты была так чертовски хороша, что, находясь с тобой в одной комнате, я испытывал такой прилив страсти, как мог я убедить тебя, что у меня не было никаких намерений в отношении других женщин, этой идиотки Эпштейн? Я не мог. Что ж, ей-богу, в последние два месяца у меня были такие намерения. Залогом твоя сладкая жизнь — были. Хочешь знать, сколько раз я имел…
— Нет, Гарри, — сказала я. — Пожалуйста, не надо.
— Можешь плакать, пока голова не отвалится, — сказал он. — Сапог с чужой ноги. Разве это не метафора?
— Да, — сказала я.
Тогда он замолчал — его немного трясло, и он играл кистью. Мы оба молчали не более пяти секунд, а я пыталась думать, наблюдая за ним: неужели он не понимает, неужели я не могу убедить его, что вместо радости я испытывала такую агонию, ложась со всеми этими другими, неприязненными мужчинами, как действовали на меня джин и чувство вины, перья, шуршащие в темноте, чувство, что я тону? Потом я сказала бы ему: «Ох, мой Гарри, мой потерянный милый Гарри, я блядствовала в темноте не потому, что хотела, а потому, что наказывала себя за то, что наказала тебя, однако что-то более сильное, чем думы или память, и более мрачное, чем то и другое, движет мной, и ты не узнаешь об этом, поскольку, проснувшись, еще не совсем я от всего этого отошла».