Полынь
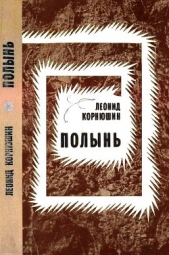
Полынь читать книгу онлайн
В настоящий сборник вошли повести и рассказы Леонида Корнюшина о людях советской деревни, написанные в разные годы. Все эти произведения уже известны читателям, они включались в авторские сборники и публиковались в периодической печати.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иван встал, посмотрел внимательно на светящуюся яблоню, натужно кашлянул и пошел в дом.
Утром меня разбудил шум на дворе, слышалось несколько голосов; я подумал, что это, наверно, из-за петуха. Я оделся, не стал умываться и пошел во двор послушать.
Мать Ивановой жены размахивала руками, и обзывала соседку, у которой полузадушили и общипали живого петуха, и кричала, что это они в отместку срубили яблоню, и заплакала в голос, с подвывом.
Дом Ершовых уже был пустой.
— След, видишь, заметают, — сказал кто-то о Ершовых. Возле сарая на затоптанной гряде копошились воробьи в соломенной трухе: ее вывернули из матраца.
Яблони не было. Низенький пенек затек желтым липким соком, зеленые мухи кормились им, а вокруг не пахло благовестом весны — пахло клопами и чем-то зимним, залежалым от вытряхнутой соломы. Массу лепестков поднимал от земли низовой ветер и крутил тут же, по двору, и чудилось, что это метель, которая вот-вот заплачет.
— Батюшки, да кто ж яблоню-то срубил? — спрашивала всех какая-то женщина. — Кому замешала?
«Древо жизни, — подумал я. — Яблоня давала плоды. А в плодах есть сок, и сок в земле, и соком наливаются наши дети. Что же тут срублено: целая жизнь или просто старое дерево?»
На дворе появился, прихрамывая, маленький подвижный Федор Митин.
Митин подошел к пеньку, ударил об него деревяшкой — рой мух, жужжа, взлетел кверху — и долго молча стоял на одном месте. Потом он как-то странно взмахнул обеими руками, как будто ему было все равно смотреть на содеянное.
— Все, брат, под топор! Горевать некому и не надо. Тут целая небожественная вера: очисти пространство после себя. Выстрой себе сам жизнь на голом месте. Это уже вера, она хоть и старая, закоренелая, да в новой окраске. Старички, бывало, хоть гвоздь дать могли, к примеру, погорельцам.
Иван стоял тут же, в сторонке, с потухшей папиросой во рту и, будто от озноба, поеживался плечами.
Митин подошел к нему. Я увидел, как люто сверкают его глаза под взлохмаченными, близко сведенными бровями.
— Не яблоню ты срубил, дурень несчастный! — грозно и тихо сказал Митин. — Ты корни свои подсек. Жить-то чем будешь? Пожалел оставить ее Липатовым? А отца не пожалел? Его рубанул по самому больному. Память отцовью выдрал. Эх, Иван… Гад же ты! — Митин умолк, глаза его затянулись как бы дымом — он точно ушел в себя и воскрешал что-то в памяти, быть может, самое дорогое.
Иван пошевелил губами, желая, возможно, что-то произнести, но промолчал, покосился на посторонних: люди, вероятно, не слышали слов Митина, они все шумели возле пенька.
Митин побледнел еще больше, даже побелели всегда желтоватые скулы, и, маленький, непрощающий, подступил к самой Ивановой груди. Тот стоял точно каменный. У Митина начали угрожающе шевелиться ноздри.
— Черт с ней, с яблоней. Свой век отжила. Другую люди посадят. А корни-то, Ваня, у жизни… одни. Раз выдерешь — назад не впихнешь.
— Слабо доказал, — сказал бесстрастно Иван, — вовсе не доказательно…
Митин махнул рукой и, похрамывая, гремя деревяшкой, заспешил со двора. Женщины и ребятишки разошлись молча вслед за ним.
К концу дня, вернувшись из поездки в село Плосково, я застал Ивана на старом дворе: он угрюмо сидел на ступеньке. Липатовский мальчишка пустил от сарая старую бочку; глухо бренча, она покатилась через весь двор.
Иван хмуро, затравленно жевал губы и глядел, как она, эта сырая бочка, облипает еще не совсем увядшим яблоневым цветом, спросил:
— Прогноз не слышал?
— Передают дождь.
— Опять развезет.
— Да, глина, — сказал я.
— Погоду искалечили, — сказал Иван, нагнулся, поднял тонкий гибкий сучок с палево-ажурной кожицей, он хрустнул в его ладони — по пальцам потек золотистый яблоневый сок.
Иван торопливо спрятал руки за спину и пошел со двора. И оттуда, с дороги, он казался очень маленьким, потом совсем исчез на ровной улице, будто растворился в земле.
…Через несколько дней Митин посадил саженец яблони рядом с пеньком. Он долго не приживался, сох, мы поливали его, прикрепили к колышкам. Митин сумрачно и люто бил по земле деревяшкой и ругал почем зря Ершовых, называл их «оглоедами».
Ночью ударил заморозок, иней забелил нагие бугры, потухли луга за Днепром, стало звонко, грустно и очень далеко слышно, как все равно с земли сняли перегородки. Митин три раза за ночь выходил смотреть саженец, обмотал его паклей: торчал лишь вверху бурый отросток. Днем отпустило, но траву побил мороз, на огороде уже почернел огуречник, и по нему ходили гуси на своих красных лапах.
Встретил меня Митин повеселевший, оживленный, без кепки, с расстегнутым воротом.
— Уцелел, дьяволенок! — обрадованно сообщил он, ласково расправляя в темных, заскорузлых ладонях кончик саженца, и добавил: — Думаю, сдюжит. Должон!
Перекати-поле
Я ехал в командировку в Семлевский район — самый отдаленный от областного центра. Четвертый год я работал в сельхозуправлении зоотехником, теперь ехал «изучить и по возможности внедрить в жизнь», как выразился мой начальник, ценный опыт какой-то Логиновой. «Логинова… интересно… — думал я. — Знакомая; однако, фамилия. Слышал я ее где-то, что ли… Или, возможно, читал о ней?»
Я напрягал память, перебирая прошлые встречи и события, — там нигде не значилось Логиновой. И все-таки мне было как-то не по себе, странно — точно я ехал в гости к старому другу, забыв его имя. Рабочий поезд вез меня по холмистой равнине. Высокое, налитое синевой небо начиналось где-то впереди, вырастало из желтеющих и будто призрачных лесов.
Там, за лесами, была деревня Вязьмичи с сонной речкой Лещенкой, с лопухами и яблонями и первыми поцелуями у соломенного омета на рассвете… Там мне пришлось жить в войну.
Семлевский район, по которому я сейчас ехал, был соседним с тем, где я жил, — Хомутовским.
И когда сразу за Семлевом по крутому косогору зашелковела дикая толокнянка и загорелись целые костры кукушкина льна, когда через желтовато-зеленый луг девичьим пояском завилась тропинка, я вдруг остро, до сердечного томления, вспомнил все это пережитое в наших Вязьмичах… Я вспомнил робкую, розовую, крадущуюся из полей зорю, тихий всхлип гармошки, росу и эту простенькую, но милую толокнянку… Зябкие плечи какой-то девчонки, теплые шевелящиеся губы, восторженные, счастливые глаза. «Кажется, они были голубые?.. — начал припоминать я. — Ну да, как это небо. А как ее звали? Вера, Зина, Алла? Не помню…» Лицо этой девчонки с радостными глазами, едва прояснившееся в памяти, начало растворяться и пропадать среди лиц других девчонок. Теперь они все оставались за моей спиной, как туман, но почему-то вспомнились лишь эти чистые, как бы сбрызнутые росой, глаза девчонки из Вязьмичей.
Через минут двадцать я уже сидел в кабинете председателя колхоза «Парижская коммуна», где жила эта Логинова…
— Михаил, глянь, опять к Александре! — крикнул, натужив до багровости лицо, председатель в сторону полуоткрытой боковой двери.
В дверь высунулась сперва желтая, как клок пергаментной бумаги, плешь, потом длинный, с горбинкой, нос, потом большие, сильно оттопыренные, рдяные от солнца уши.
— Откуда? — строго спросил ушастый.
Я показал свое командировочное удостоверение.
Председатель потюкал желтыми ногтями по крышке стола — должно быть, соображая, по рангу или нет везти меня на ферму к Логиновой в «Волге», которую я видел возле правления, или же на грузовике.
— Скажи Сереге, пусть свозит товарища.
Серега был малый лет тридцати, с крупной, высоко подстриженной головой и очень широкими бровями.
Мы поехали в «Волге».
В поезде воспоминание о Вязьмичах было хотя и сильным, но все же как бы приглушенным. Здесь, вблизи, все нахлынуло с новой силой… Мы миновали расхлябистый мостишко, овраг, ржаное поле, какую-то деревню со звенящей полуденной тишиной, опять овраг со стоячей рыжей водой, и наконец потянулись ометы свежей соломы. А у меня снова засосало под сердцем, заскребло, в мозгу пчелиным роем зашевелились воспоминания… «Я люблю смотреть на звезды, они совсем живые…» — вот оно начало всплывать, проясняться — даже фраза этой девчонки не забыта. Я нахмурился, удивляясь, почему именно теперь начала приходить мне на память жизнь в Вязьмичах и девчонка возле омета, — ведь за спиной лежали восемнадцать лет. Неужели за эти годы я ни разу о ней не вспомнил? Чтобы отвлечься, я начал пытать Серегу про Логинову. Я спросил, между прочим:

























