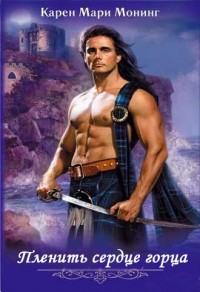В сердце страны

В сердце страны читать книгу онлайн
Белый человек, женщина, в сердце африканской пустыни. Чувство глобального одиночества и абсолютной выключенности из жизни. Фантазии, рожденные одиночеством, безумнее и безумнее с каждым днем. Реальность, подмененная вымыслом, размывается и теряет власть. Остаются песок пустыни и текущее, как песок, время. Лауреат Нобелевской премии по литературе, автор Жизни и времени Михаэла К. , Бесчестья и других шедевров мировой прозы, Дж. М. Кутзее остается верен себе, проникая вместе с читателем в сердце страны, имя которой — Человек.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
87. Я – черная вдова в трауре по своей жизни. Всю мою жизнь меня оставляли лежать – забытую, пыльную, как старый башмак, или использовали как орудие для приведения дома в порядок и контроля за слугами. Но я вижу смысл своего существования совсем иначе, он нерешительно мерцает где-то в моем внутреннем мраке: я—чехол, оболочка для пустого внутреннего пространства. Я передвигаюсь по миру не как лезвие ножа, разрезающее ветер, или башня с глазами, подобная моему отцу, а как дырка, вокруг которой – тело; внизу свисают две длинные тонкие ноги, две костлявые руки хлопают по бокам, сверху – большая голова. Я дырка, плачущая от желания быть заполненной. Я знаю, что в каком-то смысле это просто слова, просто способ представлять себя, но если не думать о себе словами и зрительными образами, то как же еще думать? Я представляю себя соломенной женщиной, пугалом, не слишком туго набитым, с нарисованным сердитым лицом, чтобы отпугивать воров, пустым изнутри – полевые мышки могли бы использовать это внутреннее пространство, если бы были очень умными. Но это уже больше, нежели зрительный образ, не могу этого отрицать, я не столь уж несведуща в анатомии, и мое сложение вызывает у меня интерес; к тому же я еще и девушка с фермы, живущая в круговороте природы – пусть и такой скудной, как у нас в пустыне, – и я в курсе, что у меня между ног имеется дырка, которая никогда не была заполненной, и она ведет к другой дырке, тоже никогда не заполнявшейся. Если я – круг, то, как мне порой кажется, это оттого, что я – женщина. Однако как это бесит: после рассуждений, которые сделали бы честь мыслителю, обнаружить, что я угодила в ловушку и должна признать, что, если бы рядом со мной спал настоящий мужчина и подарил бы мне детей, все было бы хорошо, я бы воспрянула духом и научилась улыбаться, мое тело налилось бы, кожа засияла, а голос у меня в голове начал бы заикаться и затих. Я не верю, что брак между парнем с фермы и девушкой с фермы спасет меня – что бы ни означало «спасти», – по крайней мере пока: неизвестно, какие перемены меня ждут. Не исключено, что мне предназначена более высокая судьба. Поэтому, если каким-то чудом один из костлявых соседей вдруг явится в один прекрасный день с букетом из цветов велда, краснея и потея, и начнет обхаживать меня ради моего наследства, я улягусь в постель, или стану читать ему свои ужасные сонеты, или буду корчиться у его ног в припадке, – словом, сделаю то, что заставит его галопом мчаться прочь. Всегда подразумевается, что у нас есть соседи, но я не вижу никаких доказательств этого – как будто мы живем на луне.
88. С другой стороны, иногда на много дней подряд я утрачиваю ощущение своёй избранности и вижу себя просто одинокой уродливой старой девой, способной спастись до некоторой степени от одиночества, вступив в брак (человеческий институт брака) с другой одинокой душой, возможно более алчной, чем большинство, более глупой, более уродливой – словом, не подарок, так ведь и я не подарок; я поклянусь склоняться перед ним немного ниже и прислуживать немного больше, чем стала бы другая женщина, и субботними вечерами должна буду раздеваться для него, потушив свет, чтобы не отпугнуть, и возбуждать, если можно постичь искусство возбуждения; и направлять к отверстию, которое можно сделать проницаемым с помощью куриного жира, горшочек с которым будет стоять на ночном столике; и, после того как перенесу всю эту возню, в конце концов буду заполнена семенем, и буду лежать, слушая его храп, пока не придет утешительный сон. Там, где мне не хватает опыта, я компенсирую его воображением. Если у мужчин и женщин все это происходит иначе, могло же быть и так. Я могу также вообразить, как через много месяцев забеременею, – хотя меня бы не удивило, если бы я оказалась бесплодной: уж очень я смахиваю на бесплодную женщину, как ее обычно представляют, – а потом, через семь-восемь месяцев, произведу на свет ребенка; я буду одна, без повивальной бабки, в соседней ком нате будет валяться в стельку пьяный муж, и я сама перегрызу зубами пуповину, и прижму синевато-багровое личико младенца к своей жалкой груди; а потом, через десять лет заточения, выйду на дневной свет во главе целого выводка низкорослых девочек, смахивающих на крыс, все—моя точная копия, сердито щурящихся на солнце, путающихся в собственных ногах, одинаково одетых в платьица темно-зеленого цвета и тупоносые черные туфли; а потом, еще десять лет понаблюдав, как они шипят и царапаются, отправлю их одну за другой в широкий мир, предоставив делать то, что делают там непривлекательные девушки: жить в меблированных комнатах, может быть работать на почте и рожать незаконных детей, смахивающих на крыс, которых будут отсылать на ферму.
89. Возможно, это все, что значит для меня избранность: не быть персонажем буколической комедии, похожей на вышеописанную, не быть объясненной с помощью нищеты, вырождения, тупости или праздности. Я хочу, чтобы у моей истории было начало, середина и конец, а не зияющая середина без конца, которая грозит мне не меньше, если я буду смотреть сквозь пальцы на любовные похождения моего отца и нянчиться с ним, когда он впадет в старческое слабоумие, чем если бы меня повел к алтарю какой-нибудь пастушок и я умерла бы на склоне лет – сморщенная бабушка в качалке. Я должна не уснуть в середине своей жизни. Из пустоты, окружающей меня, я должна выхватывать одно событие за другим, и их маленькие вспышки помогут мне держаться. Потому что история иного рода—плетение воспоминаний в дремотном мозгу – никогда не может быть моей. Моя жизнь – это не прошлое, мое искусство не может быть искусством памяти. То, что со мной произойдет, еще не произошло. Я—слепое пятно, которое с открытыми глазами бросается в пучину будущего, мой пароль – «Что дальше?». И если в эту минуту непохоже, что я туда бросаюсь, это лишь оттого, что я немного медлю в пустом доме, радуясь солнечному лучу, который точно так же блестит в медных кастрюлях, выстроившихся рядами, как блестел еще до моего рождения. Я была бы не я, если бы не ощущала обольщения холодного каменного дома, уютных старых традиций, старинного феодального языка. Возможно, несмотря на мои черные одежды и сталь в моем сердце (если только это не камень, кто знает – ведь оно так далеко), я консерватор, а не разрушитель; быть может, моя ярость, вызванная отцом, – просто ярость от нарушения старого языка, правильного языка, которое имеет место, когда он обменивается поцелуями и личными местоимениями с девушкой, которая вчера скребла полы, а сегодня должна мыть окна.
90. Но это, как и многое, сказанное обо мне, лишь теория. Мне ни в коем случае нельзя заточить себя в версию, согласно которой я мстительница с горящими глазами и мечом в руке, отстаивающая старые традиции. Я помню из какой-то книги, что рак-отшельник, подрастая, перемещается из одной пустой раковины в другую. Мрачный моралист с огненным мечом – это всего лишь остановка в пути, чуть менее временная, чем изможденная жена, вяжущая на веранде, чуть более временная, чем безумная женщина велда, которая беседует со своими друзьями насекомыми и разгуливает под полуденным солнцем, но все равно временная. Неважно, в чьей раковине я сейчас прячусь, это раковина мертвого существа. Важно, чтобы мое тревожное «я» с мягким телом имело убежище от хищников глубин – осьминога, акулы, кита – словом, от всех, кто нападает на рака-отшельника; я не знаю ничего об океанах, хотя когда-нибудь, когда я стану вдовой или старой девой при деньгах, я обещаю себе, что проведу день на взморье: я положу в корзину сэндвичи, набью кошелек деньгами, сяду в поезд и скажу, что хочу увидеть море, – это дает некоторое представление о том, как я наивна. Я сниму туфли и побреду по шуршащему песку у моря, думая о том, сколько же крошечных смертей понадобилось, чтобы создать его, я закатаю юбки и буду шлепать по мелководью, и меня ущипнет рак, рак-отшельник – какая космическая шутка! – и я буду смотреть на горизонт, и вздыхать от необъятности всего этого, и есть свои сэндвичи, едва ощущая вкус хлеба и сладкого инжира, и думать о своей незначительности. Потом, очищенная, спокойная, я поеду на поезде домой и буду сидеть на веранде, глядя на пламенеющие закаты с их красками – малиновой, розовой, фиолетовой, оранжевой, кроваво-красной, – и лить слезы о себе, о жизни, которой не жила, о радости и желании никому не понадобившегося тела, пыльного, сухого, непривлекательного, о замедляющейся пульсации моей крови. Я встану с холщового кресла и побреду в свою спальню, разденусь в сгущающихся сумерках, экономя свечи, – и, вздыхая, вздыхая, сразу же засну. Мне приснится сон о камешке, лежащем на пляже, среди акров белого песка, глядящем в приветливое голубое небо, убаюкиваемом волнами; но я никогда не узнаю, действительно ли мне снился этот сон, потому что крик петуха смоет из моей памяти все, происшедшее ночью. Или, быть может, я совсем не буду спать, а буду ворочаться всю ночь из-за зубной боли после сладкого; ведь мы здесь не обращаем никакого внимания на гигиену, у нас дурной запах изо рта, а со временем и гнилые корешки зубов, и мы раздумываем, что же с собой делать, пока дело не дойдет до щипцов ветеринара, или до ватки с чесночным соком на спичке, или до слез. Слез я до сих пор избегала, но есть время и место для всего; уверена, что однажды дело у меня дойдет до слез, – когда я останусь одна на ферме, когда все они уйдут: Хендрик и его жена, Анна и Якоб, мой отец, моя мать, внуки, смахивающие на крыс, и я смогу свободно разгуливать по дому в сорочке, и выходить во двор, и на покинутые овечьи пастбища, и на холмы; вот тогда и придет время плакать, и рвать волосы, и скрипеть оставшимися зубами, не боясь, что меня услышат, – тогда уже не нужно будет держаться. Тогда придет пора испробовать силу этих легких, которые я никогда не испытывала, узнать, смогут ли они вызвать эхо в горах и на равнинах – если равнины могут рождать эхо, – проверить, отзовутся ли они на мои стоны, вопли и причитания. И кто знает, быть может, тогда наступит время разорвать свою одежду и разжечь перед домом большой костер, швыряя туда одежду, мебель и картины, моего отца, мать и давно утраченного брата, которые будут съеживаться в огне, среди кружевных салфеточек, а я буду кричать от неистовой радости, когда языки пламени взовьются в ночное небо, и, возможно, даже носить головешки в дом и поджигать матрасы, и шкафы, и потолки из желтого дерева, и чердак с сундуками, набитыми воспоминаниями, – до тех пор пока соседи, кем бы они ни были, не увидят башню из пламени на горизонте и не примчатся галопом в темноте, чтобы увезти меня в безопасное место, – хихикающую старуху, бормочущую себе под нос, которой хотелось, чтобы ее заметили.