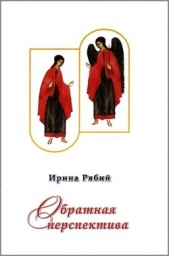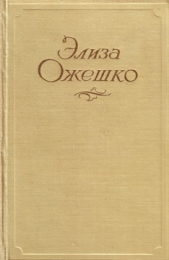Обратная перспектива

Обратная перспектива читать книгу онлайн
Роман «Обратная перспектива» — четвёртая книга одарённого, глубокого художника, поэта и прозаика Гарри Гордона, автора романа «Поздно. Темно. Далеко», книги стихов «Птичьи права» и сборника прозы «Пастух своих коров». Во всех его произведениях, будь то картины, стихи, романы или рассказы, прослеживается удивительная мужская нежность к Божьему миру. О чём бы Гордон ни писал, он всегда объясняется в любви.
В «Обратной перспективе» нет ни острого сюжета, ни захватывающих событий. В неторопливом течении повествования герои озираются в поисках своего места во времени и пространстве. Автор не утомляет читателя ни сложными фразами, ни занудными рассуждениями — он лёгок и доступен, остроумен, ироничен, но лёгкость эта обманчива, ибо за нею, точнее под нею таится глубокий смысл, там совершается драма грустной человеческой жизни и таинство её перехода в мир иной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отцветала уже сирень, но над её синей листвой колыхались и шумно дышали огромные груды белой акации, в её сладком запахе возвращались смутные детские печали. А когда этот запах смешивался с запахом морской воды, ещё прохладной и потому особенно свежей, тянуло сделать что-нибудь глупое и необъяснимое.
Под Аркадией, на диком пляже, горел в пещере небольшой костёр из плавника, на гибких веточках дерезы покачивался над огнём шашлык из колбасы и хлеба. Колбаса шипела и лопалась, жир капал на гладкие, обточенные морем деревяшки, и капля долго чернела, пока деревяшка не обгорала.
О живописи — это слишком серьёзно, об этом потом, вечером, в пустом гулком коридоре под статуей Лаокоона. А сейчас — акации гонят волну, волны эти сталкиваются над берегом с волнами прибоя, мерещатся в этой зыби пленительные образы.
Девушки на курсе, конечно, никакие. Одна — дура, с вечно воздетыми ручками и круглым животом, похожа на примус. Другая — красивая, ничего не скажешь, только уж слишком распущенная, опасная, гуляет с фиксатыми жлобами, старыми, лет под тридцать. А эта вообще — комсомолка с тонкими ножками и бородавкой на губе. Римка, конечно, ничего — весёлая, талантливая, с крепкими ногами и низко посаженным задом, а двигается — как американский авианосец «Кирсардж». Только и с ней говорить не о чем — тёмная, как антрацит, с какого-то хутора под Херсоном.
— Вот мы привередничаем, — грустно сказал Кока, — а женимся в результате на каких-нибудь кугутках.
— Я не женюсь, — похвастал Плющик. — Я, как приспичит жениться, ухо себе буду обрубать, вроде Ван Гога.
— Это сколько тебе ушей понадобится, — рассмеялся Карл. — И вообще — ты Ван Гога с отцом Сергием перепутал.
— Тихо! — Кока приложил палец к губам и насторожился. Все замерли.
— Нет, показалось, — сказал Кока.
Карл знал, что не надо расспрашивать. Показалось — и показалось. Он выполз из пещеры — и задохнулся, как от хорошей новости: шелестела и клокотала в прибое галька, впереди — полное лето каникул, ему — восемнадцать, а до женитьбы — как до того Лузановского мыса, что висит над горизонтом светлой охрой, с разбелённым ультрамарином в лощинах.
Кока взобрался на скалу и подбрасывал в воздух остатки хлеба. Чайки кружили над ним, овевали крыльями щёки, садились на плечи, зависали над головой, царапали светлые волосы, Кока хохотал и разбрасывал руки. Внезапно он затих.
— Стоп! А где Плющик?
— Мало ли… Зашёл за скалку.
Кока спрыгнул с камня.
— Ты — туда, а я — туда.
Карл посмотрел на море — да нет, Плющик сдуру туда не полезет, он и в тёплой воде не очень-то… По гальке и по песку, перебираясь через осыпи и завалы, заглядывая в пещеры, мимо бледной парочки, недовольно поглядевшей вслед, Карл обошёл несколько бухточек и вернулся к угасшему костру. Через некоторое время подошёл Кока.
— Ну?
— Слинял, гад.
— Это кто слинял? Это кто гад?
Светящимся силуэтом Плющ возник в проёме пещеры, торжественно вынул из-за пазухи тёмную бутылку кубинского рома.
— Плакал аттестат зрелости, — обречённо кивнул Кока.
— А ром — он и есть сама зрелость, — возразил Плющик, — напиток настоящих мужчин. Ничего, Кокочка, на справку осталось. Ты, ведь, Карлуша, диктант подкинешь?
Швыряли камни, целились в сигаретную пачку, жменю гальки подбрасывали таким образом, чтобы она, входя в воду, произносила «Бурлюк!». Спорили, у кого лучше получается. Пили за настоящих мужиков: дядю Хэма, Поля Гогена, Александра Грина.
— Я вам скажу хорошую новость, мальчики. Этих бабок всё равно бы не хватило. Я узнавал — с этого сезона аттестат стоит пятьсот.
2
— Ну как, рассказывай. — Снежана нетерпеливо пододвинула стул. Лелеев поднял над столом стеклянные глаза.
— Ты меня, Снежаночка, сначала напои, накорми, а потом спать уложи.
— Нет, серьёзно.
— А серьёзно, — Плющ налили себе полстакана водки и залпом выпил. — А серьёзно — ничего серьёзного. Разночинец, дай-ка зажигалку.
— Ну, не томи…
Плющ, наконец, успокоился.
— Во-первых. Ты же знаешь, Снежаночка, эти музейные особняки — сплошные коммуналки и жить страшно — деревянные конструкции сто раз погнили. А тут — капитальные перекрытия, и весь второй этаж — заблудиться можно. И полы тисовые. Водила меня, госпожа, водила, а потом завела в ванную и показала свою джакузи…
— Что-что? Лелеев, что ты ржёшь?
— Джакузи. Ну, хреновина такая. С водоворотиком.
— Ладно. А сама-то она как, Надежда?
— Ничего. Только обаятельная. Сволочь, наверное.
Лелеев закашлялся.
— И нечего кашлять. Хорошему человеку незачем казаться хорошим.
— Да Бог с ней, — Снежана придвинула тарелку с макаронами, измазанными мясным фаршем. — Что ученица?
— А… — Плющ вдруг устал. — Четырнадцатилетняя дылда. Ростом… Лелеев, встань-ка.
Лелеев приподнялся в недоумении.
— Ну, да, — удовлетворённо кивнул Плющ. — Не меньше. Садись. Покажи, говорю, свои работы. Приготовился. Думаю — кувшинчики какие-нибудь, яблочки, берёзки… а она приносит… Знаешь, бумага для ксерокса, формат А4. И на ней фломастерами — принцессы в бальных платьях. С диадемами. А вместо глаз — миндалины с ресничками. Ну, говорю, а ещё что-нибудь умеешь? А она осматривает меня с головы до ног, делает восхищённые глазки и нежно так выдыхает: «да…»
Плющ внезапно вскочил, с шумом отодвинул стул и взревел:
— На хрен!
Лелеев тихо выпил и приподнялся.
— Я пойду…
— Иди, иди…
Когда дверь за Лелеевым закрылась, Плющ грустно усмехнулся:
— Всё, Снежаночка. Теперь вся Кимра будет знать, что я обозвал Надежду и сукой, и падлой.
Глава пятая
1
После пожара ничего не изменилось, но было ощущение, что раскрылась новая тетрадка, и жизнь началась с красной строки.
В этом новом спокойствии чувствовался, тем не менее, какой-то изъян, раковина, пузырёк воздуха невысоко над головой.
Карла раздражало чувство новой неполноценности, он восстанавливал все события девятого мая, но пузырёк не исчезал, а только смещался, как при моргании помеха в глазу, похожая на инфузорию Хуана Миро.
Облегчение пришло внезапно. Вот Славка на лугу — корову доит, а вот рядом с ним… Конечно же, это та старуха с перепелиными яйцами на пожарище, возникшая так мистически вместо дедушки из зелёного домика.
Гнетущий пузырёк над головой лопнул — он оказался сомнением Карла в собственной психической нормальности.
Старуха стояла тёплая и живая, потрогай, если не веришь, и дышала как Славка, как корова. У неё были имя и статус — госпожа Стелла, ясновидящая. И гостила она у своего родственника Васьки.
Васька, в отличие от Славки, был человек положительный и нелюбознательный, в свободное время отсиживался за печкой — мрачно болел язвой желудка. Казалось, он вырезан из дерева, не пригодного для поделочных работ, из делового, местного, сосны, например, и потому пошёл продольными трещинами сверху донизу.
Наезды родственницы терпел со скрипом, считал её балоболкой, не годящей для деревенской жизни. Дура, дом продала, а теперь мыкается по родственникам, почву какую-то ищет.
Эта госпожа Стелла была когда-то Стешей, Степанидой, и жила недалеко, в большом селе, в двадцати километрах отсюда. Муж ушёл от неё рано, ей и тридцати не было. Стеша, гладкая, доброжелательная баба, не горевала, поработала недолго в колхозной чайной, но не выдержала напора грубых человеческих сил, и уютно вжилась в своё небольшое хозяйство, с козой, коровой и десятком кур. Развала колхоза она, замечтавшись, не заметила, тяжёлые перестроечные времена проулыбалась — дачник не вымер, и даже слегка плодился и требовал молока.
Однажды Стеша проснулась позже обыкновенного, вспомнила, какой сегодня день и заволновалось — ей стукнуло пятьдесят пять, время заслуженного отдыха, и должно произойти, наконец, что-то чрезвычайное.