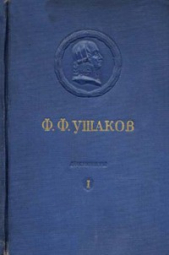Девственницы Вивальди

Девственницы Вивальди читать книгу онлайн
Она была молода, красива и талантлива. Она жила в прекраснейшем городе мира — Венеции. У нее была семья — наставницы и воспитанницы Оспедале делла Пьета, «Приюта милосердия». У нее было сокровище — ее скрипка. У нее была страсть — музыка. У нее был покровитель — сам маэстро Антонио Вивальди. И она чуть было не лишилась всего этого в погоне за тайной, которая не давала ей покоя, — тайной своего происхождения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно же, я не раз глядела на звезды и луну в окно, но из приюта я могла видеть лишь жалкое подобие великолепия, простершегося в ту ночь над моей головой, обрамленного силуэтами палаццо, выстроившихся вдоль Большого канала.
Небосвод в ясную ночь живет и пульсирует; звезды на нем похожи на ноты, обращенные в свет, и, подобно нотам, они мерцают, растут, блекнут и падают. Художникам пока не удалось отразить это на холсте — и никогда не удастся, пока кто-нибудь из них не научит свои краски танцевать.
Я украдкой оглянулась на гондольера — он мне подмигнул. Все они дают цеховую клятву хранить молчание: ни один не выдаст тайны, подслушанной во время работы, будь то тайна любви или убийства. Я пообещала себе, что, если соберусь когда-нибудь бежать из Пьеты, то непременно воспользуюсь гондолой.
Мы слишком быстро приплыли к выходящим на канал воротам приюта, и только тогда я с ужасом задумалась о последствиях нашего поступка. Девочек переводили из coro в разряд figlie di comun и за менее серьезные нарушения. Я представила, что всю оставшуюся жизнь вместо занятий музыкой буду в мастерской плести кружева или прясть шелковину, и возненавидела Марьетту. Несмотря на то что в сердце я чувствовала горячую благодарность к подруге за одно из самых прекрасных приключений в моей жизни, тем не менее я ненавидела ее за то, что она заставила меня сделать.
Один из стражников вручил привратнице щедрую подачку — несомненно, любезно переданную ему Рыжим Аббатом. К тому моменту, как мы с Марьеттой выбрались из гондолы и шагнули через порог, маэстры Беттины нигде не было видно. Я бы никогда не подумала, что эти стражницы наших врат, всегда старейшие и благочестивейшие, а зачастую и подлейшие из наших воспитательниц, могут быть куплены. Правда, с тех пор я узнала, что у каждого есть своя цена.
Босиком и без масок мы с Марьеттой взбежали вверх по лестнице и миновали темную переднюю. Затаив дыхание, прокрались на цыпочках мимо грузной фигуры сестры Джованны, похрапывающей на своем стуле. Опершись о спинку, она, вероятно, витала в снах о той жизни, которой могла бы наслаждаться, если бы родители любили ее больше, чем ее сестрицу.
Мы скинули мужские одежды и натянули наши ночные рубашки, затем, переглянувшись, без лишних слов просунули костюмы, раздобытые Марьеттиной матерью, через оконную решетку. Улики нашей ночной вылазки упали с негромким всплеском в канал Рио делла Пьета и поплыли дальше, к морю. Я улыбнулась подруге и впервые почувствовала к ней неподдельную привязанность и все возрастающее уважение.
Не успела я опустить голову на подушку, как и надо мной начали смыкаться всепоглощающие волны сна. Вдруг кто-то положил мне на лицо руку, и я увидела склонившуюся ко мне Бернардину. Она уставилась на меня единственным здоровым глазом — вторым, по ее уверениям, она прозревала будущее.
— Молчи! — шепнула она.
Затем она медленно отвела в сторону одеяло и задрала на мне рубашку. Луна уже ушла с небосклона, но Бернардина наверняка могла рассмотреть мое тело при свете звезд и тусклом мерцании ночника в коридоре. Поблескивая зрячим глазом, она потянулась к моему лону, и ее длинный палец коснулся миндалинки у меня между ног — всего на мгновение, словно она боялась обжечься. Бернардина ухмыльнулась, поправила на мне рубашку и накрыла меня одеялом. Я отпихнула руку, которой она зажимала мне рот.
— Ч-ш! — шикнула она на меня.
— Оставь меня в покое! — прошипела я.
Бернардина по-прежнему улыбалась.
— Я видела, что вы вдвоем вытворяли, как уходили и приходили, вот этим самым глазом, — она указала на зрячий глаз, — и вот этим тоже! — Теперь она показала на бельмо. — Получше береги свое местечко любимицы маэстро, bell'Annina mia!
И она взглянула на меня с такой нескрываемой ненавистью, что, будь у нее нож, она наверняка всадила бы мне его прямо в сердце. Однако за неимением ножа она снова ухмыльнулась и произнесла: «Спокойной ночи!».
После этого я долго лежала, уставив взор в темноту и так страдая от страха и одиночества, как еще никогда в жизни.
5
В лето Господне 1709
«Милая матушка!
Как бы мне пригодились твои советы, ведь я, кажется, навлекла на себя вечный гнев воспитателей.
Сегодня утром, чтобы утолить жажду, мне пришлось разбить ледяную корку в кувшине с водой. Говорят, такой холодной зимы не было уже сто лет. La Serenissima преобразилась, вмерзшая во время так же прочно, как и я, застрявшая в стенах своей темницы. И каналы, и даже лагуны покрылись толстым льдом.
Пока нынешняя зима не изменила вид из наших окон, я даже не задумывалась, что Венеция, хоть и построенная из камня, — так или иначе, город, где даже все самое прочное всегда подвижно. Отражения розовых и серых мраморных строений дробятся на водной глади на бесчисленное множество сверкающих цветных пятен. То же мерцающее движение отражается в каждом оконном стекле, когда гондолы проносятся мимо, взад и вперед, словно ласточки.
Вид из больших окон — и из моего любимого — столь мне привычен, что встает передо мной, стоит лишь закрыть глаза. Хотелось бы мне сейчас смотреть на воду, но единственное оконце моего карцера невелико и расположено почти под самым потолком, так что мне виден только клочок серого неба.
Ветер и прилив нагоняют воду. Стены и фундамент церкви Пьеты то сольются в бешеной пляске отражений с отдаленной башней Сан-Джорджо Маджоре, то опять расстанутся. Ничто в этом городе, каким бы устойчивым и прочным оно ни казалось, не знает истинного покоя.
Ох, писать, писать — и ни разу не получить ответа! Столько слов — читала ли ты их хоть однажды? Жива ли ты? А если жива, то где живешь и почему до сих пор прячешься от меня? Выглядываешь ли на улицу в эту лютую зиму? Мерзнут ли у тебя руки, так что ногти синеют? У меня вот синеют, а пальцы коченеют, так что я едва могу писать.
Однажды я ухаживала в здешней лечебнице за слепой нищенкой. Вместо зелени, или синевы, или черноты в ее глазах застыли две молочно-белые лепешки. Вот точно такой лед лежит на каналах — тусклый, непрозрачный. Венеция — королева, не мыслящая жизни без зеркал, — в одночасье лишилась зрения. Хуже всего, что она не видит саму себя. А нам, сироткам Пьеты, всеобщая неподвижность мешает исполнять музыку, словно ноты — и те застывают в воздухе и замерзают прямо на лету.
Состояние каналов вызвало среди нас немалое оживление. В первый день великой стужи воспитанницы, вместо того чтобы переодеться и пойти на завтрак, сгрудились у окон в ночных рубашках, притиснувшись друг к другу, словно молитвенники на книжной полке, и смотрели во все глаза. Ко всеобщей радости, на льду показались трое кухонных работниц в масках, укутанные в накидки. Они начали кататься и скользить, растопырив руки и задирая вверх лица.
Расчистив себе пространство у окна локтями, Ла Бефана перекрестилась и заявила, что подобное поведение возмутительно. А нам стало еще веселее, когда одна из девушек шлепнулась на задок и на нем проехалась между двумя другими. Те попытались ее остановить, но она только закрутилась на льду, словно флюгер в бурю. Когда же на Большом канале появилась карета, запряженная четверкой белых лошадей, мы, желая получше разглядеть это чудо из чудес, стали толкаться и отпихивать друг дружку пуще прежнего.
Потом все стали умолять, чтоб нас пустили прогуляться, но диспенсьера сказала, что в Пьете недостаточно теплой одежды на всех, а без нее нам — верная гибель. Тогда мы завопили, словно стайка пятилетних малышек: „Мы будем бегать и согреемся!“
Впрочем, нам уже надоело клянчить к тому времени, как Вивальди пришел на репетицию. Его нос и щеки от холода пылали — почти как его волосы. С ним шел носильщик, рослый крепкий парень с лицом столь же красным, как у маэстро, хотя и совершенно по иной причине — он столкнулся лицом к лицу со знаменитыми девушками Пьеты.
Еще не отошедшие от шаловливого настроения, мы начали его дразнить. Моя подружка Клаудия, пансионерка из Саксонии, укутанная по самые глаза, медленно повела плечами, и ее шаль скользнула на пол. Юнец пришел в такое замешательство, что тут же освободился от груза — двух виолончелей в футлярах — и удрал, даже не дождавшись платы. Маэстро потер руки — не знаю, то ли от холода, то ли жадность в нем взыграла, — и произнес:
— Ловко проделано, фройляйн.
Клаудия поклонилась.
Маэстро обвел нас взглядом, в котором таился в высшей степени озорной умысел.
— Здесь, ангелочки мои, вы найдете совершенно особые инструменты, приобретенные для вас ценой больших личных затрат!
Он открыл футляры и… ты бы ни за что не догадалась! Один был полон карнавальных масок, а другой набит всевозможными шерстяными накидками. Мы завизжали от восторга, но маэстро зашикал на нас, покосившись в сторону коридора.
— Неужели вы думаете, — обратился он к нам, понизив голос, — что я позволю им держать вас взаперти в столь знаменательный для la Serenissima день, какой бывает всего раз в столетие, — день, когда она удостаивается знакомства с четвертым временем года?
Весь сияя, маэстро принялся раздавать маски и накидки, выкликая нас по именам и, очевидно, тщательно подбирая для каждой подходящую маску. Мне досталась маска, которую он назвал „Зима“.
— Прислушайся к ней, к своим ощущениям! — шепнул Вивальди. Он сперва подержал маску передо мной, а потом дал мне взглянуть через вырезы ее глаз. — Ветер и стужа, лед под ногами, гул тишины. Слушай и запоминай!
Маттео, охранявший ворота в тот день, куда-то запропастился; подозреваю, что его без труда можно было бы обнаружить в одном из ближайших кабачков, где он тратил монетки, полученные от маэстро. Под прикрытием масок и накидок мы, держась парами за руки, по очереди выскользнули из ворот. Замыкал шествие маэстро в носатой маске Пульчинеллы.
Холод… Как же описать тебе холод? На мгновение мне показалось, будто я упала в канал: он прикасается к тебе везде, напирает на тебя, будто ищет, как пробраться внутрь твоего тела. Мы все были столь ошеломлены, что даже не бегали, а просто стояли неподвижно, глядя, как наше дыхание превращается в облачка вроде дыма, словно мы не девочки в масках, а огнедышащие дракончики.
Дон Вивальди в своей шутовской маске носился меж нами, тянул к обледенелому и оттого дьявольски скользкому сходу. Даже водоросли, покрывавшие ступени, и те вмерзли в лед. Раньше я даже не подозревала, что могу быть такой неуклюжей и что обычная ходьба — довольно опасное занятие. Многие не решались сдвинуться с места и то и дело взвизгивали, теряя равновесие и хватаясь руками за воздух или за ближайшую соседку.
Маэстро держал под мышкой сверток, весьма напоминавший звериную шкуру.
— Осторожнее, детки, прошу вас, не переломайте себе кости. Если надо, ползите на карачках, но все-таки наберитесь смелости: может быть, придется ждать еще столетие, пока венецианцы снова смогут ходить по водам.
Мы все понемногу, держась друг за дружку и стараясь, чтоб ноги не разъезжались в стороны, спустились на застывшую гладь канала. Маэстро бросил шкуру на лед мехом вверх:
— Ну, садитесь! Ты и ты.
Двое девушек уселись на шкуру, подоткнув вокруг себя накидки, и сразу стали похожи на фантастических птиц, прилетевших из другого мира и спустившихся к нам на канал. Маэстро, гораздо лучше нас державшийся на ногах, сдвинул шкуру с места, раскрутил, а потом отпустил, и она заскользила по льду вместе с девушками — а они заливались хохотом и сучили в воздухе руками и ногами.
— Вот, ангелы мои, так развлекаются зимой ребятишки. Струнницы, берегите пальчики — прячьте под накидки!
Так мы веселились и, несмотря на мороз, скоро разогрелись, а щеки наши запылали. Самые смелые разгонялись и скользили по льду стоя, а маэстро встречал нас и ловил в охапку. В тот момент он был больше Пульчинеллой, чем самим собой.
Вслед за мной подошла очередь Клаудии; он поймал ее, откинул ей маску и поцеловал, так тесно привлекши ее к себе, что спина Клаудии выгнулась, будто деревце на ветру. Это произошло почти мгновенно, и я даже решила, что мне, возможно, все лишь почудилось. Я взглянула на окно, где недавно приметила Ла Бефану — она по-прежнему стояла и глазела на нас. Я вознесла молитвы, чтобы в тот миг она сморгнула или отвернулась.
Мне и самой лучше бы ничего не видеть. Все же несправедливо, что маэстро, создатель столь божественной музыки, носит такие же выпачканные землей башмаки, как и любой венецианец. Я хорошо запомнила, что говорила мне Клаудия о мужчинах вообще и священниках в частности — об их вполне земных потребностях.
Но маэстро-то слеплен из иного теста — я в этом не сомневаюсь. Для него этот мир играет, как наши инструменты для нас; Вивальди ласковой рукой извлекает из него самые сладкозвучные гармонии, самые изящные взлеты фантазии. А в улыбке Клаудии, несомненно, хватает и изящества, и сладости. Может быть, маэстро поступил как пчела, оказавшаяся вблизи цветка, — должна же она распробовать его нектар!
Вскоре после этого он погнал нас обратно в помещение. Мы успели изрядно вспотеть под шерстяными накидками. Наши наставницы стенали и ворчали, укоряя маэстро, что он заморозил и себя, и нас. Вивальди ушел, покашливая, но все равно с улыбкой на лице. Поварихи завернули нас в нагретые у кухонного огня одеяла, накормили бульоном и отправили спать.
Я долго не могла заснуть, заново переживая все увиденное и прочувствованное за день. Я знала, что маэстро в этот момент, скорее всего, стоит у клавесина и перелагает на музыку ощущения морозца, веселья и даже того поцелуя. И знала, что самые выразительные и трудные пассажи он прибережет для своего инструмента и для моего…
Чего бы я не отдала за одно из тех нагретых одеял сейчас!..
На следующее утро, еще не проснувшись толком, я почувствовала, как он обнимает меня, но, мгновенно очнувшись, поняла, что это не он, а Клаудия. Я обернулась к ней — оказывается, она тоже уже не спала. Я попыталась представить ее замужней дамой, с целым выводком детишек, живущей в большом доме, полном слуг, драгоценностей и шелковых платьев, — и ее мужа, возможно даже на много лет старше нашего маэстро.
Таким размышлениям предавалась я, лежа в объятиях Клаудии, и, наверное, заснула бы снова, если бы она не нарушила молчание.
— Я знаю, откуда приехала сюда, — тихо произнесла она, словно обращаясь к себе самой, — и в точности знаю, куда возвращусь и что со мной потом станет. Но ты, Анна Мария… у тебя в этом мире особая судьба.
Если бы только найти ключик к этой особой судьбе! Хотела бы я повернуться так, чтобы увидеть твое лицо, а на плече почувствовать твою руку. В твоих глазах я бы нашла ответы на любые вопросы.
Я молюсь о теплом одеяле, об окне, из которого виден мир, и об избавлении от иллюзий. Я молюсь о свете.