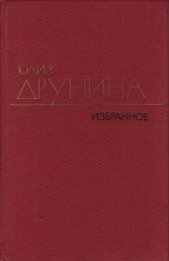Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е

Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е читать книгу онлайн
Вторая книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)», посвященных 1960–1980-м годам XX века. Освобождение от «ценностей» советского общества формировало особую авторскую позицию: обращение к ценностям, репрессированным официальной культурой и в нравственной, и в эстетической сферах. В уникальных для литературы 1970-х гг. текстах отражен художественный опыт выживания в пустоте.
Автор концепции издания — Б. И. Иванов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Карлика мигом одолевали предчувствия близкой решительной радости, которая вовсе не кончится после того, как однажды начнется.
Радость обязана произойти без особой на то причины. Радость обязана произойти без объяснения повода, необходимого будто бы как оправдание. Любые причины да поводы как оправдания собраны все под ее каблуком. У независимой радости-максималистки нет обывательской надобы похорохориться на похвальбу, нету нее родовой принадлежности к авторитетам, ей не присуще занятие зваться парадным осколком от общего блага.
Не по замыслу свыше, но вопреки тому замыслу — возникает она самовольно, как аутосфера по самонаитию.
Готовься, пожалуйста, не пропустить ее мимо груди.
Не прозевай — потому что без этого мир истощается.
Мир обернется тогда тебе на беду заносчивой дуростью. Конечно, даже травинка, фитюлька рядом у твоих ног… Или, конечно, какая пичуга, фитюлька тоже в объеме пространства…
Как и любые другие субъекты первейшего права на жизнь, эти кроткие малые стати природы вполне воплощали собой мозаично для Карлика радость умелого существования всякой возможности, были назло вредоносному сраму борьбы не потеряны попусту, но повернуть или высветить иначе нашу тропу на стезе кустарей — таковые примеры насущной фантастики были, конечно, слабы, хотя весьма не бесплодны.
— Вы себя помните внешне? Даю на всякий случай подсказку.
— Не помню. Булькай.
— Малый вы подозрительный, чопорный, твердый, короче — носатый… Вы кобура с отливками губ.
— Я кобура?
— Для начала плотнее зажмурьтесь.
— Это зачем? Я не буду некстати.
— Но мысленно можно свой профиль увидеть, если плотнее зажмуриться.
— Господи, мамочка! — сбоку зевнула фальцетом актриса — профессионально, взатяжку. — Чего там увидишь, если зажмуришься?
— Тебя-то кто вопрошает? — осадил ее выходку чопорный. — Речь идет обо мне. Все забыл я — величайший заслуженный физик, у которого были проблемы науки. Мемуары сколачиваю.
— Примите мои поздравления. Много наколотили?
— Не твое дело. Говорю тебе, память опустошена, как ослиное стойло, где нет уже никакой животины.
— Сдох осел? Ясненько! Тогда речь о той синей двери напротив. Это не синяя дверь, а зеленая. Синь — это зелень, а главные люди, впадая в обман, еще не достигли того понимания тонкости цвета, что синему лучше зеленое прозвище.
— Люди наклонные говоруны, потому что привыкли наклонно шептаться.
— Возможно. Та всячина, квазиштуковина разная, что без оттенка зеленого шарма, не синяя, вы не согласны?
— Чу! — сообщила новость актриса. — Вижу зажмуренными глазами.
— Не верили? — радовался Графаилл, опальный поэт, инициатор идеи зажмуриться. — Долго не верили! Вот уже вы себя видите.
— Неописуемую вижу действительность.
— А себя?
— Хоботом. Отломанный, кажется, хобот у чайника вижу, приветствуя.
— По логике, так и должно быть. Образно мы себя видим. Образно, примитивистски.
— Хоботом? — удивилась актриса.
— Не твое гиблое дело! — вновь осадил ее притязания физик. — Образно — хоботом?
— Образно примитивистски. Хоботом или не хоботом, или собранием уполномоченных, или размашистой дыркой на выкройке.
— Тебе паровозной занюханной вонью себя ни разу не доводилось обнаружить, очкарик?
— Я зачастую скучаю полынью в ошурках.
— Отрава.
— Тсс!.. Или можно брыгайлу зато ненароком узрить…
— Это какую брыгайлу?
— Да, какую? Что за брыгайла?
— Пес ее знает, она промелькнула в уме, ничего не сказала.
Дорога ползла неподвижно вперед и тащила на себе Карлика. С утра по дороге к облупленной башне возобладало желание снова прильнуть инстинктивно к оазису неба глазами — доброе небо за дымкой мистического тумана сулило по связи поддержку, что ты достоверное лицо.
Между ними была напрямую налажена связь.
Это наверняка телепатия, догадывался Карлик, уважая небо за разговор интеллекта с интеллектом.
Издали башня — ветхий музейный сарай — похожа своими горбами на ветхий музейный корабль, умыкнутый на сушу пиратами. Среди городской гольтепы накопился поэтому скабрезный слух. Якобы ночью морского разбоя, набычив улитые ряшки…
Дескать, еще в позапрошлом столетии ночью служаки морского разбоя похитили на берег чью-то фамильную шхуну в расчете на выкуп, а вскоре, когда надоело таскать ее волоком через овсяные дебри угодий, обиделись быть у нее бурлаками навеки под лямкой с чужого плеча.
— Тьфу нам на шхуну! — взроптали служаки молитву, старея. — Спасти бы корыстно свою драгоценную шкуру… Лямка не мамка…
Сверху нечеткими хлопьями пены вблизи самой башни, мешая сегодня контакту, висели по синему фону смешно там и сям облака. Вдобавок и местные женщины тоже старательно портили небо вблизи самой башни, как обнаглевшие домохозяйки вблизи коммунальной прачечной. Дамы кочевья сушили на длинной веревке по синему фону подъятое кверху белье. Бесстыдство пейзажа достигло предела терпения. Белье на веревке, напоминавшее мелкие рваные хлопья небес, как и сами небесные рваные хлопья, напоминавшие ту же растрепку белья, застили Карлику весь обозримый доверчивый космос исподниками да простынями. Была теснота, куда невозможно по-честному вклиниться, вклюнуться взору. Царила полнейшая неразбериха. Карлик обмяк и поежился на демонстрацию облачно-тряпочной прорвы:
— Бунт? Обидно за принципы, коли предложат аферу тебе по-товарищески переодеться во все не свое после стирки.
Небо ссудило прохладой щекотку за шиворот.
Уродица башня ждала.
В уродице башне гуртом обитали созвездно мыслители нации. Высокочтимые разумы, чья мировая бесспорная слава мастито бессмертна, мудрили законы стране. Карлик у башни, вообще-то, не пешка, не клоун и должен охотиться.
Карлик обязан отслеживать их изречения, зорко внимать изобилию реплик и шквалу пророчеств и строго-престрого блюсти золотой заповедный, забагренный фонд оптимизма светил, а затем ювелирно, каллиграфическими завитками ручного письма, где буквы красуются, что виноградные зрелые гроздья, что добрые демоны, что скакуны, что премьеры, переносить это все по крупице на сокровенно секретные бланки с аллюрами, как ясновидящие рекомендации веку. Без оговорок и без экивоков обиды на трусость и трудности Карлик успешно служил и не портил условия службы, которую взялся нести на правах одаренного писаря башни по конкурсу на пол-оклада.
Карлику тошно хитрить, ему хочется сгинуть отсюда подальше, за тридевять астрономических ям и планет, а врагом его был оборзевший подельник Илларион.
Имея неглупую внешность, улику на случай внезапной анкеты, Карлик уже набрал от роду сорок лет с гаком на случай внезапной кончины. Карлик озлоблен, озлобился на шевелюру, которая портится, чешется, жалит его хоботками волос и трещит, — она мучит его сердцевидную голову, гнусно треща-вереща под иголками гребня, как если бы псы на макушку насыпали молний. Карлик отчасти беспочвенно беден, одет он излишне тепло, не по-летнему, по-шерстяному, по-ватному, зычно сопит и боится простуды. Карлик отчасти довольно богат, а врагом его был откровенный завистник Илларион.
У Карлика родственный долг опекунства. Сестра, за которую старший братишка в ответе, смущает его бесконечно. Когда-то сестру нарекли на крестинах апокрифическим именем, ей в ее метрику тушью намазали сразу четыре словечка, четыре словечка текстуры незнамо зачем и три штуки тире между ними для связки.
Поцелуй-Меня-За-Ножку звали сестру.
Смущая, тревожа своей неудачей по жизни, сестра в западне выпадает из общего строя гражданок. Она малохольная, голая, как аномалия.
Сызмальства — против одежды любого фасона.
Младенческий дар ускользать из-под ига пеленок и тут у нее развился на сегодня до крайне строптивого норова. Божий, наверное, дар — ускользать из-под ига. Всегда на виду, на свободе. Соседи хотели привадить ее носить юбку по поводу срама, напрасно хотели — не сладили. Кривой сердобольный священник отец Алексей тоже дюже хотел и, по-моему, тоже не сладил уговорить ее на домотканое рубище, которое сам изготовил, обдумав отверстие для головы.