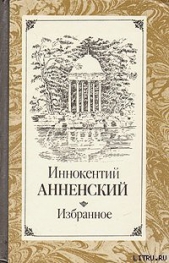Жена Гоголя и другие истории

Жена Гоголя и другие истории читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Видишь ли, я действительно обозначаю то, что ты сказал. А по-твоему, это справедливо? Почему бы мне не обозначать что-нибудь относящееся к ручейку? Во всяком случае, нечто струящееся?
— С какой это стати?
— Да ты только вслушайся: Ве-ле-ре-чие! Уши у тебя, что ли, заложило?
— Хм. Во-первых, может быть, тебя вовсе нет. Вот Велеречивость я знаю, еще бывает Велеречивый, Велеречиво... Что же до тебя... Если ты и существуешь, то употребляешься крайне редко, так что нечего тут ныть.
— Нет, существую, еще как существую! А коль редко употребляюсь, так это ничего не значит.
— А ну-ка, — вскинулось другое слово, — я вот Мицца. Что это, по-твоему, значит?
— Почем я знаю?
— Ну, даешь! При том, что ты один из этих... Впрочем, так даже лучше. Ты вот что скажи: приблизительно, на первый взгляд, что я, по твоему мнению, могла бы значить?
— Даже не знаю... Может быть, что-то вроде пирога?
— Да ни в жизнь! При чем здесь пицца? Ты не ищи, на что это похоже, а то мы так далеко не уедем. Взгляни на меня просто, без всяких там сравнений. Вот так глянул — и сразу говори, что я такое.
— Тогда ты, надо думать, палатка или шатер какой-нибудь.
— То-то и оно!
— Что?
— В том-то вся и штука, что на самом деле я обозначаю сорт клубники. Это же вопиющая несправедливость!
— А я? — вмешалось третье слово. — Мне куда деваться прикажете? Со мной, к примеру, все наоборот: меня называют Молотком. Вообще ни в какие ворота не лезет!
— Господи, это тоже просто бред!
— А что такое молоток, ты, по крайней мере, знаешь? Как бы то ни было, молоток никак не может называться Молотком.
— Ну и ну! А как же ему тогда называться?
— Каракатицей, разумеется.
— Ладно, с тобой все ясно, да только что тебе с этой перестановки? Молоток есть Молоток, а назовись ты Каракатицей — какой от этого прок? Так и будешь Каракатицей, а никак не Молотком. Ты ведь не более чем слово.
— Ничегошеньки ты не понял, — вмешалась сама Каракатица. — Это же проще пареной репы: мы с ним хотим поменяться значениями. Хоть это довести до ума. Разве я не права, а, Молоток?
— Нет, дорогая, ничего подобного! — взвился Молоток. — Что ж получается: ты возьмешь, чего хотела, и горя тебе мало! А мне какую-то там тварь ползучую обозначать? Фу! Как бы не так! Единственное, что может означать Молоток, — это что-нибудь... какое-нибудь дерево. Что-нибудь растительное, так-то.
— Не горячись, — попытался я его унять. — Вот уж, поистине: две бабы — базар, семь — ярмарка.
— В пословице не две, а три бабы.
— Вы вдвоем целой ярмарки стоите. Давайте разберемся: не ты ли, Молоток, заявил, что тебе надо бы называться и даже быть Каракатицей?
— Ничуть не бывало! У тебя, видно, совсем ум за разум зашел. Повторяю: то, что называется Молотком, должно было бы называться Каракатицей. Уловил разницу?
— Боже милостивый, у меня голова от вас кругом! Ну и что же дальше?
— Да ничего особенного. Я, понятное дело, не собираюсь менять свое значение на какую-то там Каракатицу, скорее, Каракатице следует взять мое. Теперь ясно?
— Не сказал бы.
— Чего же тут неясного? Я просто-напросто уступаю свое значение Каракатице, но брать взамен ее значение — упаси Боже! Мне бы какое-нибудь другое.
— Это какое же, интересно?
— Ну вот, к примеру... Береза.
— А она?
— Кто, Береза? Возьмет себе еще чье-нибудь, все равно ее собственное нисколечко ей не подходит. Скажем, пусть будет Балкой.
— Чего-чего?! — завопила вышеозначенная Балка, услыхав такие речи. — Да ты что, спятил? Занимайся лучше собой, а в мои дела не суйся, без тебя разберусь!
И такое тут началось...
— Мое имя — Иридий, — провозгласило еще одно слово с важным видом. — А обозначать я могу исключительно рашпиль, заявляю во всеуслышание.
— А я что же, обязан взять твое значение? — возмутился Рашпиль. — Ты, видно, считаешь, что я способен обозначать только что-нибудь мягко-бесформенное? А металлическое, да к тому же еще и твердое, я обозначать не в состоянии? Тогда я лучше с Подушкой поменяюсь или, на худой конец, с Валиком...
Теперь уже все галдели что было мочи; я думал, у меня лопнут барабанные перепонки. Наконец терпение мое иссякло.
— Да что вы из себя воображаете, шельмецы окаянные? — заорал я. — Сейчас я вам такое устрою — узнаете у меня, почем фунт лиха!
— Что? Что ты нам устроишь? — захихикали они.
— А вот увидите.
Вне себя от гнева я бросился на кухню, нашел пустую бутылку, прихватил в кабинете листок бумаги, карандаш и снова кинулся к умывальнику.
— Сперва я запишу ваши значения, потом загоню всех вас в бутылку. Будете вылезать по очереди: кто вылезет первым, получает первое по списку значение, второй — второе и так далее. И уж не обессудьте — кому что достанется, без претензий. Ну, начали.
Тут они подняли страшный гвалт, норовя сбить меня с толку. Однако мне все же удалось заставить их четко и ясно растолковать, кто они такие. Улизнуть они все равно пытались и разбегались кто куда. Я накрывал их ладонью, как сачком, захватывал двумя пальцами и в конце концов запихнул всех в бутылку. Они заскреблись, точно мыши в мышеловке. Потом я принялся вытряхивать их по одному, и каждое слово, как я уже сказал, получало то значение, которое выпадало на его долю. Оказавшись на воле, они улепетывали что было духу. Вот вам и весь сказ.
Весь-то весь, да вот ведь незадача: у каждого слова теперь новое значение. И все бы ничего, но у кого какое — поди разбери. Вы поняли, про что я? Договорились-то мы по-дружески, на словах. В суете мне и в голову не пришло взять на карандаш всякие там смысловые тонкости и нюансы. Так что ничего у меня теперь нет, никакой бумажки в подтверждение. Они-то знают, кто из них что обозначает, а я ведать не ведаю. Страшное дело!
Еще одно обстоятельство несколько меня беспокоит. Как я уже рассказывал, вылезая из бутылки, слова разбегались в разные стороны, но, по всей вероятности, далеко они не ушли: шмыгают где-нибудь по дому и, того гляди, набросятся на меня снова. Это уж как пить дать.
Одно у меня утешение: я понял наконец истинный смысл поговорки «хлопот полон рот».
Перевод М. Ивановой-Аннинской
АВТОРУЧКА
Ни для кого не секрет, что авторучки, как и зажигалки, да и любые другие предметы обихода, нуждаются в отдыхе. По этой самой причине, когда поэт однажды обнаружил, что его ручка не справляется надлежащим образом со своими обязанностями, то не слишком обеспокоился и отложил ее в сторону, взяв на время ручку своей квартирной хозяйки. Несмотря на осторожное обращение, новая ручка текла, даром что поэт потакал ее обычным ручковым капризам, варьируя наклон и нажим пера. Кончилось тем, что, смирившись, он вернулся к прежней ручке. Но та упорствовала в своем неповиновении. Испробовав все вообразимые средства, промаявшись напрасно несколько дней (и нанеся тем самым серьезный ущерб всевластному вдохновению), поэт решился наконец приобрести новую авторучку. Все та же квартирная хозяйка одолжила ему требуемую сумму. Поэт отправился в лучший специализированный магазин, выбрал там самую дорогую ручку и с ликованием в душе вернулся домой, уверенный, что ничто теперь не воспрепятствует вольному излиянию его чувств.
Он расположился за письменным столом и принялся за сонет. Уже было написано заглавие, первая строчка и даже начата вторая, как вдруг... как вдруг новая великолепная ручка заупрямилась, подобно ее предшественницам. Что же это такое! Ведь только что она проворно и безукоризненно чертила длинные линии и, более того, настрочила несколько пробных предложений. Это явно было неспроста. У поэта зародилось подозрение. Задумал он понаблюдать за действиями своих авторучек, в особенности последней, чье несравненное превосходство исключало даже мысль о случайности.
Нельзя сказать, чтобы она сразу заартачилась. Вдоволь напичканная чернилами, старательно вычищенная и все такое прочее, ручка через какое-то время вдруг слабела, след ее на бумаге становился все бледнее, вплоть до полной немоты, а может быть — слепоты. Тогда уж и вовсе никакого следа не оставалось. В общем было ясно: что-то из того, о чем писал поэт, было ей чрезвычайно не по нутру, вот она и отказывалась ему служить.