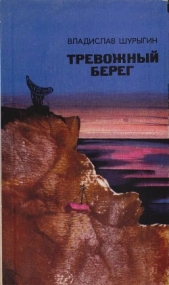Снег на Рождество

Снег на Рождество читать книгу онлайн
В своих повестях и рассказах Александр Брежнев исследует внутренний мир русского человека. Глубокая душевность авторской позиции, наряду со своеобразным стилем, позволяет по-новому взглянуть на устоявшиеся обыденные вещи. Его проза полна национальной гордости и любви к простому народу. Незаурядные, полные оптимизма герои повестей «Снег на Рождество», «Вызов», «Встречи на «Скорой», в какой бы они нелегкой и трагичной ситуации ни находились, призывают всегда сохранять идеалы любви и добра, дружбы и милосердия. Все они борются за нравственный свет, озаряющий путь к самоочищению, к преодолению пороков и соблазнов, злобы и жестокости, лести и корыстолюбия. В душевных переживаниях и совестливости за все живое автор видит путь к спасению человека как личности. Александр Брежнев — лауреат Всесоюзной премии им. А. М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что вы… Это все выдумки ваши…
— Правда?
— Неужели вы мне не верите?
— Верю.
— Айда на пруд, там скатимся с горки.
— Скатиться с горки, — она удивилась. — Что с вами, доктор?
— Влюблен.
— Ой, дайте я застегну вам пальто, а то, чего доброго, простудитесь.
— Как вас зовут?
— Виолетта.
— Красивое имя!
— Правда? А я его всегда стесняюсь.
Я подал руку, она подняла свою. Ее пальчики были холодные, тоненькие, словно птичьи.
— Вы рисуете? — спросил я, подумав, что уж если она не рисует, то, наверное, музицирует.
— Да, — ответила она. — Правда, нигде не училась. Да и то рисую лишь снег.
— Снег?
— Снег.
— Ура-а! Да здравствует снег! — воскликнул я, крепко сжав ее руку.
Мы, счастливые, шагали по полутемной улице вперед, туда, где шумел снежный ветерок…
Мне мама часто говорила: «Если врач перестанет любить, остановится жизнь». Хотя главврачиха говорила наоборот: «Доктор, ваше сюсюканье с больными не делает вас выше. Вы теряете гордость, вы становитесь бабой».
— Понимаете, жалко мне их… — оправдывался я. — А еще, я люблю…
— Ну знаете, — вспыхивала она. — Если врач будет любить каждого больного, то у него не останется времени не только для лечения, но и для своей личной жизни. Пусть любят и жалеют их папы, мамы, дяди, тети, — и вдруг, захохотав, добавляла: — Ну как можно любить Корнюху или сельповского грузчика, вечно бедных, без рубля в кармане?
— Я не согласен.
А она, вздрогнув и подобрав под себя полненькие ножки, усмехалась.
— Ничего, поработаете с мое. Не один раз до истерики доведут. Вот тогда и поймете. — И уже в силу какого-то простодушия, без всякой злобы, она добавляла: — Доктор, мой милый и дорогой, пока молоды, любите лучше не больных, а женщин, — и, поправив прическу, смотрела на меня с каким-то хитрым очарованием.
Почему-то в последнее время мне вспоминается рядовой ординатор Арсенич. Я познакомился с ним на последнем курсе института, когда мы проходили практику. В один из понедельников у него умерла жена, но он не оставил больных и пришел к ним как всегда улыбчивый, словно ничего страшного в его жизни не случилось. И никто из больных не узнал о его горе.
По вечерам нам, молодым студентам, собиравшимся попить чайку в его кабинете, он часто говорил: «Знаете, мои милые, будущие медики, где бы вы ни были и куда бы вас ни занесла судьба, помните, что самый тягчайший грех на земле, если вы обидели или ввели в грусть больного…»
Пруд с мостиком. Мы стоим с Виолеттой, обняв стволы берез. Над холмиками снега за маленьким снежно-белым домиком рыбака огромные ели.
Глаза Виолетты останавливаются на мне и точно спрашивают: «Доктор, а вы не шутите?.. А может, вы издеваетесь, и вам все равно?..»
— Вы мне поверили?
— Да! Поверил.
— И вы решились? — вдруг с каким-то отчаянием спросила она.
— В таком случае я приглашаю к себе. — Она взяла меня за руку и повела.
Она занимала полдома. Когда она зажгла свет, какое-то странное чувство охватило меня. Все стены и даже потолок в снежных картинах. Мне показалось, что в комнате, как и на улице, идет снег.
Вот засвистел ветер, а вот уже холод, протиснувшись ко мне за шиворот, заставил меня вздрогнуть. На всех картинах снег и что-то… Это «что-то» не отталкивало, наоборот, я должен в этом признаться, сильно притягивало. Подойдя к одной из картин, я спросил:
— Что это?.. — и тут же встрепенулся, чтобы предупредить ее. — Нет… Нет… Ничего не надо говорить…
И в ту же секунду я увидел знакомые лица, улицы и дома. Вот сельповский грузчик, держа в вытянутой руке шапку, наяривает гопака… А вот Нинка в красивой шали до пят, обнимая Ваську, несет на коромысле воду… А вот Корнюха вручает жене, только что приехавшей с юга, снежный гладиолус.
— Надо же, Никифоров! — воскликнул я. — Какой смешной. Председатель убегает, а он скачет за ним на медведе. Ну а это я лопаю на дежурстве печенье.
Виолетта, убрав с прохода картины, провела меня во вторую комнату. То, что я увидел, меня просто потрясло. Потолка в комнате не было. Вместо него — звездное небо. К потолочному проему приставлена лестница.
— Слышите?.. — прошептала она.
Ничего не услыхав, я с удивлением посмотрел на нее.
— Это так снежинки летят… — объяснила она и, быстро поднявшись по лестнице, позвала меня.
Я, как и она, став на сохранившийся край крыши, осмотрелся. Поселковые фонари скудно освещали дорогу, а луна еще скуднее освещала их. Шумел ветер. Чтобы не отморозить руки, я укутал их платком. А чтобы не упасть, чуть наклонился.
Виолетта вытянула вперед руки.
— Доктор, делайте, как я…
Став на колени, повторяю ее движения рук.
— Доктор, догоняй… догоняй… — зовет меня Виолетта.
Я струсил.
А она хоть бы что, спокойно стала левой ногой на край, правую задрала и опять как закричит:
— Доктор, догоняй… догоняй… — и брык с трехметровой высоты в сугроб.
— Виолетта, так опасно, — кричу я в ответ. — Чего доброго, шейные позвонки свихнешь…
А она:
— Ой, как тут бесподобно… ой, как тут бесподобно… Доктор. Становись на край.
Надо же, по доброте души так втюриться!
— Ма-ма! — закричал я, с трудом став на одну ногу. — Ма-ма! — хватаю пальцами воздух, снежинки, а упора никакого…
А она:
— Ура-а… Мы уже полетели… Догоняй меня… догоняй…
Неожиданно край крыши подо мной треснул, и я вниз головой приземлился в сугроб.
Снежинки недолго падали на меня… Через минуту Виолетта прилетела ко мне.
— А ты знаешь, у тебя получается, — сказала Виолетта.
Я, в испуге пробежав одну, затем вторую комнату, что есть мочи помчался к больнице.
— Ты куда? — закричала она. — Постой…
Остановившись, я посмотрел на нее. После полета она была очень красива. Румяные щеки, нежная улыбка, губы, чуть-чуть прищуренные глаза — все в ней привлекало меня. Вот она подошла ко мне…
— Вы озябли, — заметил я и протянул ей свой платок.
— Ничего, — прошептала она и, сжав мою руку, тут же отпустила ее и зашагала в сторону дома.
Я постоял, постоял. А затем, улыбнувшись, пошагал следом.
Шел густой снег, мела метель.
Заметив, что я иду за ней, она остановилась. Я нагнал ее.
— Слышишь… Эти снежинки так звонят…. будто на всех колокольнях России звонят в маленькие колокола… — и, закинув руки за голову, она в задумчивости посмотрела в снежную даль.
И хотя я молчал, мне почему-то вдруг тоже захотелось вот так вот, как и она, ее взглядом, полным волнения и страсти, посмотреть туда, откуда, по ее мнению, звонили снежинки. Видимо, ее фантазия рисовала картины, картины не холстяные, а живые… «Надо же, какая натура!..» — подумал я. Хотя понимал, что внешне она не привлекательна. Ее старомодное пальтишко без пуговиц, на ногах дешевые черного цвета войлочные сапожки, видавший виды штопаный-перештопанный пуховый платок накинут на плечи, она не покрывала им голову, и он лежал на ее плечах просто так, а с варежками доходило до смешного, они были обе правые, и одна черная, другая красная.
Видимо, жила она очень бедно, а порой почти даже безденежно, кому нужны ее картины, на которых один рождественский снег, да и с ним она не могла расстаться. А ее странная любовь к снежинкам и желание летать отпугивали поселковых мужичков. Что им летающая баба, если их головы вскружены и закружены снегом, тем самым снегом, который денно и нощно валит над Касьяновкой вот уже весь декабрь.
Ну, а еще… они, конечно, побаивались ее… Уж больно была она хрупкой. Руки тонкие, носик тоненький, а личико излучало до того нежный свет, что казалось, оно было из тончайшего хрусталя, тронь его, и оно тут же рассыплется. И поэтому затевать с Виолеттой свои полюбовные штучки типа обнимки с хрустом, последующим подбрасыванием девушки в воздух, а после, опустив руки, смотреть, как она будет падать в снег вниз головой, они избегали. Мужички видели ее во сне. А ее лицо часто проступало в их домах сквозь стекла окон, и, сказочно вися в воздухе, улыбалось им и манило за собою.