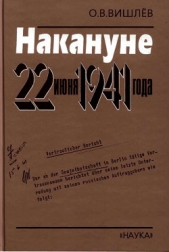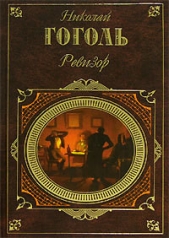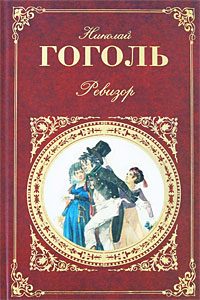Попутчики

Попутчики читать книгу онлайн
Попутчики — украинец Олесь Чубинец и еврей Феликс Забродский (он же — автор) — едут ночным поездом по Украине. Чубинец рассказывает историю своей жизни: коллективизация, голод, немецкая оккупация, репрессии, советская действительность, — а Забродский слушает, осмысливает и комментирует. В результате рождается этот, полный исторической и жизненной правды, глубины и психологизма, роман о судьбе человека, народа, страны и наций, эту страну населяющих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бедный, дурной Лёва. Третьего июля, то есть через неделю, здесь уже были немцы. Не немцы кайзера, а немцы Гитлера, и мы все, в том числе и Лёва, с ними познакомились. Впрочем, тогда он поднял мне настроение, и вскоре, среди всеобщего уныния и хаоса я встретил ещё одного весёлого человека, точнее двух. Старичка Салтыкова и его жену Марью Николаевну. На удачу пошёл я в городскую библиотеку, в которой также никого не было, кроме супругов Салтыковых. Супруги Салтыковы занимались сортировкой книг, сбрасывали с полок в кучу, на пол красные, тёмно-вишнёвые, синие томики Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Туда же летел Маяковский и прочие пролетарские поэты и писатели. А на освободившихся полках вольно располагались Пушкин, Тургенев, Гоголь, Достоевский. Старичок Салтыков тоже ждал немцев, но надежды на их приход у него были не экономические, как у Лёвы, а политические.
— Поздравляю вас, — сказал он мне, — поздравляю с избавлением от тирании иудо-коммунистического интернационала, от иудо-коммунистического ярма. Вы, Саша, малоросс, русский молодой человек, скоро опять будете хозяином в собственной стране.
— А вы дурно выглядите, — сказала Марья Николаевна, — что с вами, вы болели?
Я рассказал обо всём, что со мной случилось, причём не только им, но и себе самому, сам для себя уяснил кое-какие важные детали, на которые ранее, подавленный общей ситуацией, не обращал внимания. Меж тем детали были весьма важны. Оказалось, что моей пьесы «Рубль двадцать», в которую я вложил столько сил, столько души и труда, у меня нет. Первый, черновой вариант я по неопытности порвал после того, как переписал набело. Мне казалось, что пьеса «Рубль двадцать» — это всё моё лучшее, всё моё несостоявшееся, наболевшее, и оно не может быть черновиком. Однако вариант, переписанный набело, остался у машинистки, с которой у меня контактов вообще не было, и с которой договаривался Биск. Один экземпляр машинописи я послал в театр, и его, наверно, за ненадобностью выбросили, второй же вариант был у Биска.
— Хотя, — сказал я, — если пьеса не нужна таким известным понимающим людям, то зачем она мне?
История с моей пьесой и моё собственное отношение к ней очень разозлили старика Салтыкова. Он даже закричал на меня и потребовал, чтоб я немедленно мчался выручать пьесу у Биска, пока тот не убежал «в свой Биробиджан». О Биске он говорил с какой-то весёлой ненавистью, с каким-то злым удовольствием, а Марья Николаевна весело изображала, как жена Цаля Абрамовича, Фаня Абрамовна, зовёт мужа пить чай: «Цаль, иди кушай павидлох». Сначала она, скорчив гримасу, растянула губы, выпучила глаза, и её лицо молодящейся русской дамы, любительницы Достоевского, почитательницы Тургенева, стало похоже на лицо кривляющейся бабы-старухи.
5
Здесь хотелось бы воспользоваться паузой в рассказе Александра Чубинца, пока он повернулся к вагонному окну, глянул на несущееся мимо однообразие, чтоб передохнуть и затем сделать из бутылки один-два глотка фастовской воды, смочить уставшее горло. Лицо самого Чубинца претерпело, как мне казалось, большую перемену с того момента, как он начал рассказ о своей жизни, с того момента, как он начал с моей помощью творить свою прожитую жизнь. Возможно, конечно, что на внешнем его облике отразилась и перемена за окном. Поезд выехал из-под моросящих туч, и было очень месячно, так что внутри вагона более не было мрака, а месячный свет. Но и мысли, но и образы самого Чубинца перестали быть тёмными и стали месячными, играющими. Впрочем, Чубинца ли это мысли и образы? Где кончается душа Рассказчика и начинается душа Слушателя? В живом творении, в живом творчестве стучит единое сердце и трепещет единая душа. Потому я не буду в угоду литературным правдолюбцам отделять себя от человека, который ещё недавно, ещё на участке между Ставищем и Богуйками путал Гоголя с Достоевским. Кто важней — добытчик алмаза или ювелир, огранщик? Праздный вопрос. Поэтому образ куска хлеба, до крови укушенного Чубинцом, принадлежит мне, а месячное сияние и игра мыслей, книжных, огранённых, по праву есть достояние Саши Чубинца, ибо сейчас мы едины.
— Много было тогда надежд в первые дни, недели, месяцы войны у населения западных областей, надежд на новое, на перемену, надежд самых разных и мечты самой разной.
— Знаете, о чём я мечтаю, — сказал старичок Салтыков после того, как его жена комически изобразила Фаню Абрамовну, — знаете, о чём? Я открываю местную русскую газету, и в ней типографским способом набрано слово — «жид». Не «бундовец», не «сионист» — «жид». Последний раз более чем двадцать лет назад такое удовольствие видел.
Он вдруг схватил откуда-то из-за книжной полки балалайку, уселся на стул и с умилённым лицом, склонив голову к плечу, заиграл: «Светит месяц, светит ясный…»
— Светит полная луна, — весело подхватила Марья Николаевна, — Марья, Дарья, Васелина танцевать пришли сюда, — и она молодо топнула ногой.
— Я, знаете, — продолжая игру, сказал старичок Салтыков, — когда был студентом киевского университета Святого Владимира, то ночами ради заработка в ресторане играл, в струнном ансамбле. Счастливое, молодое было время. Теперь нам с вами, Саша, русским людям, русскому народу предстоит с помощью Европы связать прерванную иудо-большевизмом связь времён. Абсолютно по Шекспиру. В двадцать первом году я пытался уехать в Европу, уехать заграницу, и вот теперь Европа едет к нам на германских танках.
Он ещё долго говорил в этом роде, перескакивая с темы на тему, но все его темы были радостные и касались возрождения России. Потом спохватился, глянул на карманные часы-луковицу и погнал меня к Биску.
— Без своего сочинения не возвращайтесь, — крикнул он мне вслед.
К Биску, однако, меня не впустили. Его домработница, старуха-украинка, сказала мне, не отпирая дверь, что хозяина нет дома. Я объяснил, зачем пришёл, но она не отперла, предложив прийти завтра утром. А утром объявила мне, также не отпирая, что хозяин «эвакуировался».
— Как эвакуировался? — не понял я.
— Уехал.
— Куда?
— Не знаю.
— И давно уехал?
— Часа три, как на вокзал ушёл.
В полной безнадёжности, чуть не плача, я побежал на вокзал через весь разорённый город, ругая Биска примерно теми же словами, которые употреблял в его адрес старичок Салтыков. Вокзал был переполнен людьми, но билетные кассы не работали. Однако, здание вокзала, несмотря на бомбёжку, было цело. Немцы разбомбили его лишь в сорок четвёртом году, когда были выбиты из города и бомбёжками пытались остановить советское наступление. Я побегал по вокзалу, потом выбежал на перрон и, не зная почему, соскочив с перрона, побежал по путям. Может, я неосознанно пытался догнать поезд, увезший Биска с моей пьесой в Ташкент или иной глубокий тыл. Мне почему-то казалось, что Биск прихватил мою пьесу с собой, как ценность. Ибо под влиянием старичка Салтыкова я опять стал относиться к своей пьесе как к ценности. На путях стояло несколько военных эшелонов и санитарный поезд, но меня не остановили, не задержали, ибо вокруг бегало много людей с чемоданами, с узлами, пытаясь уехать. Плакали дети, слышалась ругань, поэтому странно, что в этом хаосе Биск сам меня заметил, и странно, что среди криков я его услышал.
— Саша Чубинец, — окликнул он меня.
Биск сидел на открытой платформе, тесно сдавленный другими людьми, их узлами и чемоданами, сидел на каком-то железе, на каких-то кучей наваленных станках, очевидно местного, отправляющегося в эвакуацию завода. Рядом с ним я увидел Фаню Абрамовну в капоте. Сидеть им было явно неудобно, однако они дорожили этим, захваченным ещё с рассвета, местом.
— Четвёртый час стоим, всё не уедем, — пожаловался Биск и попросил меня принести воды. Я принёс воды в алюминиевой фляге, которую протянул мне Биск и Фаня Абрамовна жадно начала пить. Потом напился Биск. Я рассказал о деле со своей пьесой и попросил вернуть экземпляр, но в это время началась паника. Над станцией появились самолёты, явно немецкие, потому что советские самолёты тогда над городом совсем не летали, а аэродром был разбит. Испуганно, трусливо загудели паровозные гудки, усиливая панику, и на крыше товарняка соседнего воинского эшелона военные начали поворачивать в сторону самолётов ствол зенитного пулемёта на высокой треноге.