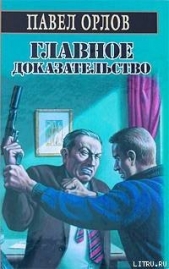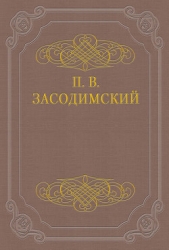Пересечение

Пересечение читать книгу онлайн
Новая книга Елены Катасоновой состоит из романа, повести и двух рассказов. Все произведения объединены общей темой: поиск своего места в жизни. «Кому нужна Синяя птица» — роман о любви, столкновении разных образов мышления: творческого и потребительского. Повесть «Бабий век — сорок лет» продолжает тему «Птицы», повествуя о сложной жизни современной женщины-горожанки. Идея рассказов «Сказки Андерсена» и «Зверь по имени Брем»: «Мы живы, пока нам есть кого любить и о ком заботиться».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Елена Катасонова
Пересечение
Кому нужна Синяя птица

Часть первая
1
Павел… Ну и дали ему имечко — Павел! Сколько тупости, сытой спеси — так, видите ли, звали деда… Бред какой-то: дурацкое имя в честь деда, которого никогда не видел. Мерзкий, кстати говоря, был старик — тетя Лиза рассказывала. «О мертвых плохо не говорят…» Таня права: если он умер, это еще не значит, что при жизни он не был мерзавцем. Какое ханжество! Татьяна права…
Павел сидел в своей машине, в мокром пустом переулке. Сидел и привычно злился. Потом опомнился, усмехнулся: ну чего навалился на ни в чем не повинное имя? Почти сорок лет служит ему верой и правдой, и ничего такого особенного в нем нет. Просто все ему опротивело, осточертело — и верная до смерти супруга, и столь же верная дама сердца, академический его институт, и он сам, со всеми потрохами, с именем — в том числе.
Сегодня он опять не выбил ничего путного из дорогого своего зава. Толстый, страдающий одышкой зав что-то пыхтел и бормотал, без конца разводил руками, мучаясь собственной деликатностью, и Павел так и не понял: что же все-таки неладно с его монографией? Сколько раз, черт возьми, можно переделывать, менять акценты, направленность, так и сяк поворачивать тему? Что, в самом деле, нужно этому толстяку Валентину с его вечными сердечными приступами, долгими вынужденными отлучками, мирным посапыванием на ученых советах, с его нашумевшей в свое время докторской и кучей книг, с его непререкаемым авторитетом в самых высоких институтских кругах?
Чем он наконец недоволен? Ведь такая нужная, актуальная, проходная тема! Павел бьется над ней вот уже четыре года — подумать только! — а ее надо сделать скорее, пока не утащили, не выхватили из-под носа… Он сам придумал ее, он ее выносил, собрал, когда жил в Индии, уникальный, бесценный материал, вывез такие книги! — недаром же они с Сергеем рылись горячими, душными вечерами в пропыленных насквозь книжных лавках Дели. Два года назад он опубликовал в серьезном журнале чуть ли не половину первой главы — в виде статьи, а потом… все, застопорилось. Все остальное не нравится заву, не нравится, он же видит!
А ведь писать Павел умеет — кандидатскую же осилил, и книжки — те, что привез, — уникальны, цены им нет, они-то и стали основой его монографии. Конечно, не целиком, и переработанные, критически переосмысленные, но рукопись ему они сделали. Павел выстроил материал идеально, подкрепил солидным фундаментом — цитатами классиков, разбил на главы, подзаголовки, параграфы, выделил важные места курсивом. Он сделал все, чтобы этот последний, как он надеялся, вариант выглядел завершенным, чтобы сразу после утверждения ученым советом его можно было сдать в издательство как плановую работу, он даже с заведующим редакцией, другом Сергея, уже говорил. Но он не учел Валентина.
Валентин был мучителем. Впрочем, ему было все равно, где болтаются в рабочее время его подчиненные, и когда ученый секретарь нападал на него за развал дисциплины, Валентин только отдувался и покорно кивал. Потом он поднимался к себе в кабинет, насупясь проходил мимо виноватых взглядов присмиревших сотрудников, садился за стол и принимался терзать свои сто раз перечеркнутые, бесконечно правленые страницы. Он с готовностью откладывал их ради страниц чужих. Тогда-то и начиналась мука: голубые глаза туманились жалостью, задавалось сочувственно два-три вопроса, предлагались две-три идеи — в робком, сослагательном наклонении, — и все нужно было писать заново и совершенно иначе.
Но иногда — редко! — Валентин вскидывал брови, упирался изумленным небесным взглядом в сидевшего напротив владельца страниц, счастливо смеялся: «А что? Хорошо, хо-ро-шо-о-о…» Значит, было действительно здорово.
Сам виноват, сам. Пристал к Валентину, озлился, потребовал высказаться определеннее: просто нервы не выдержали — уж этот-то вариант, думал, пройдет. Вот и получил, дождался.
— Как-то, дорогой мой, не очень все это ваше… не самостоятельно, что ли… — выдавил из себя зав и вконец расстроился. — Вы, Павел Петрович, поезжайте-ка домой, отдохните… На отделе поговорим.
Да не может больше он говорить! Он устал, выдохся, он три раза уже переделывал! И плевал он на этот самый отдел: все они там корифеи, экономисты, куда уж ему, историку, с его полуэкономической темой!
«Не самостоятельно…» Смешно, ей-богу, каких открытий ждет Валентин? Да, компиляция, да, конечно, чужие мысли, чужие книги в основе, пересказ, переосмысление чужих концепций. Здесь, в машине, наедине с собой, нате вам — он признает!
Ну и что? Оглянись вокруг, Валя, протри очки с толстыми стеклами, посмотри, как склеиваются из кусочков, как лепятся вполне солидные монографии.
Самостоятельность… Даже если проклюнется что-то свое, автор опрометью бросается за поддержкой к авторитетам, прячется за их безгрешные, почти святые спины, цитирует, поясняет, окружает «свое» бастионом чужого — и тонет, растворяется, пропадает в кавычках и сносках робкая мысль…
Уничтоженный, красный, больной выбрался Павел от зава, зашел за портфелем в сектор, плюхнулся было в кресло, но телефон — великое наше благо — не позволил ему рассиживаться. Галя… Постоянная дама сердца… Как всегда, «кстати»… Можно, конечно, послать ее подальше, но голос в трубке звучал так робко, так невыносимо приниженно, что Павел не посмел отказаться, собрал никчемные, как только что ему дали понять, бумаги и поплелся к машине.
Теперь вот сидит и ждет. С беспросветного неба с тихим упорством сыплет мелкий дождь, горбатая мостовая вымыта дочерна, мерно щелкают «дворники», из зеркальца на него уставился хмурый, гладко выбритый человек. Серые злые глаза, брови домиком, узкий недовольный рот… За что его любит Галя?.. Павел вздохнул и закрыл глаза.
Сашка снова поймал двойку — какую, интересно, по счету? — а ведь восьмой класс, Татьяна процедила что-то язвительное и, как всегда, очень точное про вчерашний звонок — сто раз просил Галину домой не звонить!.. Да что там: с ней вообще все разладилось, до смерти надоело, все надоело, все! Сейчас придет и начнет вздыхать: «Каким ты стал грубым… Раньше ты был другим… Почему ты не позвонил вчера?..» Ну не позвонил, что случилось-то? Позвонил, подавись ты, сегодня. Мало ей, что ли? Ах да, это она позвонила, ну и какая разница, в конце концов? Павел стиснул зубы, помотал гудящей больной головой — нет, к ней он сегодня ехать не в силах. Повезти ее разве в кафе? О господи, он знает, как это будет…
Холодный, полутемный зал «Метрополя», дородные достойные официантки, «их» столик в самом углу, а за столиком — затравленная, забившаяся в угол Галя. Она сидит и, испуганно моргая, слушает, а он, тоскуя и злясь — на нее, на себя, на весь свет, — цедит сквозь зубы гадости, вполне, впрочем, интеллигентные гадости. Галя изо всех сил делает вид, что не понимает, старается его как-то отвлечь, отвести разговор в безопасное русло, не дать сказать что-то страшное, последнее, окончательное — то, после чего примирение окажется невозможным.
А он и не скажет. Не посмеет. Потому что боится — слез, скандала, испуганных, тоскливых глаз. А еще он боится Сашки, своего родного, единственного своего сына. Боится его усмешки, когда односложно отвечает на безумные звонки Галины, боится иронии, когда пытается поговорить с ним по душам, Таниного цинизма в Сашке и своей горечи — в нем же…
Галя легонько стукнула по залитому косым дождем стеклу. Павел открыл дверцу, и она, проворно сложив мокрый зонтик, со старательной беспокойной улыбкой села в машину, придвинулась к нему поближе, робко дотронулась до его руки холодными пальцами. Да что же это, да разве так можно! Она и не замечает, как сдает позицию за позицией, как боится поцеловать его, задать лишний — любой! — вопрос. Да нет, какое уж там кафе, сколько можно ее терзать? Павел сжал ледяные пальцы: «Поедем к тебе? И не спрашивай о моих делах, ладно?» Галя торопливо закивала, благодарно потянулась к его губам. Он мягко отстранился: «Нет-нет, я, кажется, простудился…»