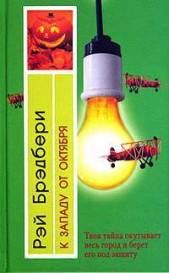Плоды зимы

Плоды зимы читать книгу онлайн
Роман «Плоды зимы», русский перевод которого лежит перед читателем, завершает тетралогию Клавеля «Великое терпение». Свое произведение писатель посвятил «памяти тех матерей и отцов, чьи имена не сохранила История, ибо их незаметно убили тяжкий труд, любовь или войны». И вполне оправданно, что Жюльен Дюбуа, главный герой предыдущих частей тетралогии, отошел здесь на задний план и, по существу, превратился в фигуру эпизодическую…
Гонкуровская премия 1968 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бернар Клавель
Плоды зимы
Часть первая Тележка
1
Памяти тех матерей и отцов, чьи
имена не сохранила История, ибо их
незаметно убили тяжкий труд, любовь или войны
…От невысказанных ими слов так тяжелы в гробах тела умерших.
Первого октября 1943 года отец проснулся еще задолго до света. Он плохо спал. Тупая боль железным обручем сжимала голову и отпускала только на короткие мгновения. Несколько минут он напряженно вслушивался в ночь. С улицы не доносилось ни звука, и западный ветер, дувший три дня кряду, как будто утих, не нагнав дождя. Отец медленно сел в постели, повернулся, спустил ноги на холодный пол и стал искать ночные туфли.
— Уже встаешь? — спросила жена.
— Я думал, ты спишь.
— Нет, я давно проснулась. Чего ты поднялся ни свет ни заря? Еще темно.
— Голова болит.
— Ложись, я спущусь и принесу тебе таблетку.
— Нет. Все равно пора вставать.
Она вздохнула. Отец начал в темноте натягивать одежду. Мать спросила:
— Ты это из-за дров беспокоишься?
— Беспокоиться не беспокоюсь, но так или иначе место приготовить нужно. Еще вчера надо было, да я побоялся, дождь пойдет, и поспешил закончить работу в саду, она-то не ждет.
Услышав скрип матраса, он понял, что жена тоже встает.
— Тебе пока незачем идти вниз.
Она не ответила, и отец ощупью добрался до двери спальни. В коридоре мутным пятном обозначилось слуховое окно, выходившее на крышу, но очертания его были расплывчаты. Отец не затемнил его черной бумагой, как все остальные: оно было над лестницей, которая не освещалась, а пользовались они лестницей, только когда шли спать. Вряд ли свечу, зажженную на какую-то минуту, могли заметить с самолета. Да окошка с улицы и не было видно, а потом, кто станет обращать внимание на одинокий дом в глубине сада. К тому же папаша Дюбуа не очень-то верил болтовне о противовоздушной обороне. Ну что самолетам бомбить в Лон-ле-Сонье? Немцев, занявших казарму Мишель и Педагогическое училище? Но немцы стоят повсюду. В любой деревушке. Не могут же американцы бомбить все подряд?
На кухне отец зажег свечу. Через полчаса рассветет, зажигать керосиновую лампу не стоило. Мать тоже спустилась в кухню.
— Плиту топить будем? — спросил он.
— Из-за двух чашек кофе, конечно, не стоит, да только у меня почти не осталось спирта, в этом месяце не выдавали.
— Собачья жизнь, им наплевать, ежели мы околеем.
— Для кофе хватит и нескольких бобовых стеблей.
— Знаю, да только ими печь не натопишь.
— Твоя печка нас обоих в гроб вгонит.
— От тебя только это и слышишь.
— Но это же правда!
Мать стала возиться с топкой. Она соскребла с решетки в поддувало золу и достала две обгоревшие головешки. Затем смяла и положила на край топки пол-листа газеты и наломала сухих стеблей, на которых еще сохранилось несколько листьев.
Отец растворил в полстакане воды таблетку аспирина, следя за всеми движениями матери. Подумать только, до чего дожили! Экономим кусок старой газеты и обогреваемся тем, что раньше бросали в яму для перегноя. Да уж конечно, печка и все здесь в доме переживет их! Особенно если и дальше так пойдет. В семьдесят лет нельзя работать от зари до зари и почти ничего не есть при этом.
Огонь под жестяной кастрюлькой начал гудеть, а вскоре и кастрюля завела свою песенку.
— Не давай ему кипеть, — сказал отец.
— Да я не отхожу. Стою тут — не беспокойся, не убежит!
— Тебе ничего сказать нельзя.
Мать стояла у плиты ссутулясь, опустив плечи. Поверх длинной, до пят, белой ночной рубашки она накинула большой черный шерстяной платок. Когда кофе согрелся, она сняла кастрюлю, положила чугунную конфорку на плиту, в которой догорало несколько красных стебельков. Отец сел на свое место, спиной к окну, а мать поставила на стол две чашки, положила две ложки, нож и кусок серого, плохо пропеченного хлеба. Еще не садясь, она спросила:
— Может, открыть ставни, как ты думаешь? Чтобы есть — света хватит, и огарок сэкономим.
— Верно! Что масло мимо хлеба пронесем, бояться не приходится.
Он встал и открыл ставни, а жена задула свечу. Над крышами и деревьями в саду Педагогического училища вставал белесый рассвет. Справа чуть вырисовывался холм Монтегю. Небо казалось серым полотнищем, низко натянутым над землей от края до края. На востоке, серое небо чуть побледнело, но и там не заметно было никакого просвета, не обозначалось никакого, даже смутного пятна.
Отец закрыл окно.
— Западный ветер из сил выбился, а дождя не надул, — сказал он. — Но дождь еще может пойти… Он недалеко.
— Знаю: у меня поясницу и спину ломит.
Отец принялся за еду. У него тоже все тело ныло. Особенно кисти рук, плечи и лодыжки. Иногда боль становилась просто нестерпимой. Такая боль, будто ему сверлят кости. Но говорить об этом он не хотел. Он и так выдохся. Какой толк повторять одно и то же? Да и жена тоже выдохлась. Она на четырнадцать лет моложе, но работа и лишения наложили на нее свою печать. Она часто упрекает его в эгоизме. В конце концов, может, оно и так, но, если он возмущается, если жалуется на трудную жизнь, так ведь это не только из-за себя, но и из-за нее. Ей-то всего пятьдесят шесть. Он в ее возрасте был еще хоть куда. Может, она слишком к себе прислушивается? Женщины все немного неженки, они столько говорят о своих болезнях, что в конце концов и вправду начинают считать себя больными. Ревматизм, конечно, у нее есть, это видно по распухшим суставам, по скрюченным пальцам, которые ей иногда трудно разогнуть, но все же, разве в пятьдесят шесть лет имеешь право чувствовать себя старухой?
— Хочешь еще? — спросила мать.
— Нет. Уж очень невкусно. Ты заварила только ячмень?
— Ну да, я еще ничего не получала за октябрь.
— Говорю тебе: они нас уморят.
Он отодвинул на середину стола недоеденный хлеб.
— Как подумаю, какой хлеб в свое время выпекал я!
— Ты это каждый день повторяешь, да только от этого не легче…
Он перебил ее:
— Да. Повторяю и буду повторять сколько захочу. Больше сорока лет выпекать хлеб, да еще какой — за десять километров за ним приезжали, — и дожить до того, чтобы на старости лет есть эту замазку, нет, я не…
Приступ кашля не дал ему докончить. Он сидел согнувшись, прижав руку к груди, затем встал и сплюнул в топку.
— Всю жизнь мучиться, чтобы дожить до такого… — прохрипел он.
— Не ты один. Тем, у кого нет огорода, еще хуже.
— Огород обработать — это тебе тоже не шуточное дело.
Он допил кофе, мать поставила его чашку в свою и ложки положила в нее же. Старики встали.
Пока они ели, свет постепенно вливался в комнату, и теперь все виделось как сквозь мутную воду: из темноты силились вырваться чугунная плита с медным прутом, огибавшим ее, деревянная лестница, что ведет наверх, и квадратный кухонный шкаф с четырьмя большими ящиками.
— Тебе нужна моя помощь, чтобы освободить место для дров? — спросила мать.
— Нет. Сам справлюсь. Надеюсь, Пико не подведет.
— Ну, раз он тебе обещал.
Отец устало махнул рукой.
— Что такое в наше время обещание! Будь это Пико-отец, тот бы, конечно, вспомнил, что, когда мы держали булочную, я был одним из его постоянных покупателей, но сыну на это начхать. Он предпочитает продавать дрова тем, у кого есть в обмен табак или вино.
— Хорошо, что напомнил про табак, пойду с утра получу за первую декаду.
Отец вышел, ворча себе под нос, что уже три дня ему нечего курить.
2