Чилийский ноктюрн
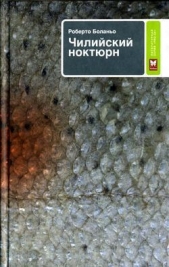
Чилийский ноктюрн читать книгу онлайн
«Я пишу, чтобы вспомнить прошлые истории и посмеяться над ними или превратить их в иные, придумав новый конец», – признавался Роберто Боланьо.
Эти слова писателя вполне можно отнести к обоим включенным в книгу произведениям, хотя ничего смешного в них нет. Наоборот, если бы не тонкая ирония Боланьо, они производили бы тяжелое впечатление, поскольку речь в них идет в основном о мрачных 70-х годах, когда в Чили совершались убийства и пропадали люди, а также об отголосках этого времени, когда память и желание отомстить не дают покоя. И пусть действующими лицами романов являются писатели, поэты, критики, другие персонажи литературной и окололитературной среды, погруженные в свой замкнутый мир, – ничто не может защитить их от горькой действительности.
Некая таинственная женщина, в чьем загородном особняке собирается интеллектуальный цвет нации, оказывается женой человека, который во время этих вечеринок в подвале, куда гостям нет хода, пытает и допрашивает людей…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Роберто Боланьо
Чилийский ноктюрн
Посвящается Каролине Лопес и Лаутаро Боланьо
Снимите парик.
Скоро, совсем скоро меня не станет, а как многое еще хочется сказать. Раньше я жил в мире с самим собой. В молчании, но в мире. Но потом что-то произошло. Виноват тот поседевший юнец. Я жил в мире. А теперь нет этого. Нужно кое-что прояснить. Поэтому я сейчас приподнимусь на локте, голову повыше – мою благородную подрагивающую голову, – вот так, а теперь надо поворошить в разных уголках памяти. Там найдется кое-что из сделанного мною, и это кое-что может меня оправдать и опровергнуть ложь, которую тот поседевший юнец распространил повсюду в одну сиятельную своей чернотой ночь. Я потерял доверие к себе. Это сладкое слово – доверие. Но надо как-то отвечать. Всю жизнь я твердил об этом. Каждый должен отвечать за свои действия, за то, о чем сказал, а еще – о чем промолчал, да, о чем смолчал, поскольку молчание достает до неба и его слушает Бог, который все понимает и обо всем судит. Так что осторожнее с ним, с молчанием! А мне – отвечать за все. Но мое молчание ничем не запятнано. Это надо прояснить с самого начала. И прежде всего это должно быть ясно для Бога. Остальное не так важно. Бог – другое дело. Да я и сам пока не знаю, о чем буду говорить. Видимо, буду удивляться самому себе, опирающемуся на локоть. И что-то бормотать в полубреду, в надежде вновь обрести душевное равновесие. Я иногда забываю даже собственное имя. А имя мое Себастьян Уррутиа Лакруа. Я чилиец. Предки по отцу были родом из Басконии – Страны Басков, или Эускади, как принято говорить сегодня. Со стороны матери я происхожу из доброй Франции, из деревушки, название которой по-испански означает то ли «Человек на земле», то ли «Пеший человек», – мой французский в эти часы приближения конца уже не такой, как раньше. Но у меня достаточно сил для воспоминаний, а еще для того, чтобы ответить на оскорбления этого поседевшего юнца, который вот так, ни с того ни с сего, вломился в мой дом со своими попреками. Вот это и надо прояснить. Я не лезу на рожон и никогда этого не любил, всегда призывал к миру и ответственности – за дело, за слова, за молчание. Главное для меня – разумное начало, человек мыслящий. Мне было всего тринадцать лет, когда я услышал глас Божий и решил учиться в семинарии. Отец был против. Он не слишком настаивал, но был против. До сих пор помню его тень, скользящую по комнатам нашего дома, будто тень угря или ласки. Еще помню – не знаю, как это получается, но помню – мою улыбку в полумраке, улыбку мальчика, каким я был. Помню гобелен с вытканной на нем сценой охоты. Еще латунное блюдо с изображением ужина и соответствующим орнаментом. И не только улыбку, но и озноб, который меня бил. Год спустя, в четырнадцать лет, я поступил в семинарию, а когда ее закончил – прошло немало времени, – мать поцеловала мне руку и назвала «падре», до меня не сразу дошло, кто это «падре», я вскинулся, запротестовал (не зови меня «падре», мама, я твой сын, говорил я ей, или сын Божий, [1]точно не помню), она начала плакать, то ли от расстройства, то ли от радости, и тогда я подумал, а может быть, только сейчас так думаю, что жизнь состоит из череды ошибок, которые постепенно подводят нас к финальной, единственной истине. Незадолго до этого или чуть погодя, то есть за несколько дней до возведения в сан священника или несколько позднее обряда посвящения, я познакомился с Фэрвеллом, знаменитым Фэрвеллом, уже не помню точно где, возможно, прямо у него дома, куда забрел с кем-то, а возможно, в его редакционном кабинете или даже в клубе, в котором он состоял, в один из тех печальных вечеров, какими изобилует апрель в Сантьяго, хотя в душе моей распевали птицы и цвели магнолии, как говорится у классика; тогда в мою жизнь и вошел Фэрвелл, высокий (метр восемьдесят, а мне показалось, что все два метра), в серой «тройке» из отличного английского сукна, ботинках, сделанных на заказ, шелковом галстуке, безупречно белой – словно мои иллюзии – сорочке с золотыми запонками и драгоценной брошью, на которой я различил какие-то знаки, было в тот момент не до них, но их значение не ускользнуло; Фэрвелл усадил меня рядом с собой, очень близко, но может быть, до того пригласил в свою библиотеку – или в клубную библиотеку, – и, пока мы рассматривали корешки книг, у него запершило в горле, и, кашляя, он, наверное, искоса посматривал на меня, хотя я не уверен, потому что не отрывал взгляда от книг, тогда он сказал мне что-то непонятное или просто не сохранившееся в памяти, а потом мы вернулись обратно и стали беседовать, он сидя в кресле, я на стуле, о книгах, которые только что просматривали, поглаживая обложки пальцами – моими тонкими молодого человека, несколько дней назад закончившего семинарию, и его толстыми, уже несколько потерявшими форму, как и должно быть у стареющего джентльмена его роста; мы говорили о книгах и их авторах, и голос Фэрвелла походил на голос большой хищной птицы, которая пролетает над реками, горами и ущельями, и все выражения у него были отточены, каждая фраза подходила, как перчатка по размеру, к формулируемой мысли, а когда я признался ему с наивностью птенчика, что хотел бы заняться литературной критикой, то есть пойти по проторенной им в свое время дорожке, и что нет на земле для меня ничего более интересного и желанного, чем читать и открыто, честно, хорошим языком толковать и резюмировать прочитанное, – и ах! – когда я это пролепетал, Фэрвелл улыбнулся, положил мне руку на плечо (рука была тяжелая, будто одетая в старинную латную рукавицу), заглянул в глаза и сказал, что эта дорога не будет легкой. В этой стране варваров, заявил он, путь литератора не бывает усыпан розами. В этой стране наследственных плантаций литературу надо искать днем с огнем, а умение по-настоящему читать не является достоинством. И поскольку я из робости ничего ему не ответил, он спросил, наклонившись ко мне, не обеспокоен ли я чем-либо, не обижен ли. «Может быть, вы или ваш отец владеете какой-нибудь плантацией?» Да нет, говорю. «А я так да, – признался Фэрвелл, – у меня усадьба подле Чильяна с маленькой винодельней, где производят неплохие вина». Здесь, к слову, и прозвучало приглашение провести ближайшие выходные в его усадьбе, которая называлась так же, как одна из книг Гюисманса, [2]уже не помню какая, может быть, «À rebours»или «Là-bas»,a то и «L'oblat», [3]память моя уже не та, скорее всего все-таки Là-bas,и тамошние вина носили то же название. Сказав это, Фэрвелл умолк, хотя его голубые глаза смотрели прямо в мои, я тоже молчал и, не выдержав его испытующего взгляда, скромно опустил голову, будто раненая птичка, представляя эту усадьбу, где жизнь литератора наверняка была усыпана розами, где умение читать считалось несомненным достоинством и где вкус был превыше житейских обязанностей и надобностей, потом я поднял взор, и мои глаза семинариста столкнулись с соколиными глазами Фэрвелла, и тогда я несколько раз кивнул, ответил, что приеду и что для меня было бы честью провести конец недели в имении крупнейшего литературного критика Чили. Когда пришел назначенный день, в моей душе царили сумятица и неуверенность, я не знал, что мне надеть, сутану или мирской костюм, если костюм, то поди реши какой, а если сутану, то как меня там воспримут. Еще я не мог выбрать, какие книги взять с собой, чтобы читать в поезде туда и обратно, – может быть, «Историю Италии» туда, а на обратный путь «Антологию чилийской поэзии» того же Фэрвелла? А может, наоборот? Еще меня мучило, кого из писателей (а у Фэрвелла в усадьбе всегда бывали писатели) доведется встретить в Là-bas:будет ли это поэт Урибаррена, автор великолепных сонетов духовного содержания, или Монтойя Эйсагирре, мастер коротких филигранных прозаических форм, или Бальдомеро Лисаменди Эррасурис, прирожденный историк, влюбленный в свой предмет. Все трое были друзьями Фэрвелла. Однако на самом деле у него имелось столько друзей и недругов, что гадать на сей счет было бесполезно. Так вот, в тот день я отправился на станцию в паническом неведении, однако полный решимости проглотить любую пилюлю, какую только ни пропишет мне на этот раз Всевышний. Как сейчас (и даже ярче) помню чилийские луга и родных коров с черными (или белыми, если угодно) пятнами на боках, пасущихся вдоль железнодорожного полотна. Временами перестук колес навевал сон, и я закрывал глаза. Так же, как сейчас их закрываю. Но неизвестность встряхивала меня, и я вновь таращился на пейзаж – разный, то богатый сочными красками, то печально приглушенный. Когда поезд допыхтел до Чильяна, я нанял машину, которая подвезла меня до деревушки под названием Керкен. На главном пятачке (не называть же эту площадку местной Пласа-де-Армас [4]) не оказалось ни одной живой души. Расплатившись с таксистом, я подхватил чемоданчик, окинул взглядом местную панораму и обернулся к нему за разъяснениями, а может быть, подспудно собираясь опять залезть в его колымагу и спешно ретироваться в Чильян, а оттуда в Сантьяго, но тот уже взял с места так, будто отсутствие признаков жизни, в котором чувствовалось что-то роковое, наполнило его первобытным ужасом. Какое-то время мне тоже было не по себе. Ну и видок у меня: в этакой дыре с семинарским багажом в одной руке и «Антологией» Фэрвелла в другой. Из-за рощицы выпорхнула стайка птиц. Казалось, в их чириканье слышалось название этой забытой Создателем деревушки – Керкен, что походило и на «кого-кого?». Шепча скороговоркой молитву, я направился к деревянной скамейке в надежде привести хоть в какое-то соответствие то, что я в тот момент собой представлял, с тем, кем хотел казаться. «Матерь Божия, не оставь слугу своего верного, – бормотал я, а черные птички, сантиметров по двадцать пять каждая, кричали «кого-кого-кого?», – Дева Лурдская, не откажи в помощи бедному клирику, – а другие птицы, коричневые (точнее, коричневатые), с белой грудкой и сантиметров по десять ростом, чирикали то же самое, но потише, – Дева Скорбящая, Дева Просветленная, Дева Поэзии, не оставь пропадать под открытым небом», – твердил я, пока другие птички, совсем маленькие, темно-красные, черные, розовые, желтые и синие, посвистывали «кого-кого-кого?», а тут еще налетел холодный ветер, так что я мигом продрог до костей. И в ту же минуту на проселочной дороге показался какой-то экипаж, что-то вроде кабриолета или шарабана, запряженный двумя лошадьми – буланой и крапчатой, – который ехал в мою сторону. Он вырисовывался на фоне неба резным эстампом, нельзя сказать, чтобы очень жизнерадостным, скорее, смахивал на катафалк, рыщущий в поисках клиента для отправки в ад. За несколько метров до моей скамейки кучер – крестьянин, который, несмотря на холодную погоду, был одет в рубашку и жилетку, – спросил меня, не я ли сеньор Себастьян Уррутиа Лакруа, переврав при этом и имя, и фамилию. Я ответил, что да, я тот, кого он ищет. Тогда посыльный молча соскочил с сиденья, сунул мой чемоданчик в повозку, а мне указал на место подле себя. Полный сомнений, усиленных ледяным ветром, задувавшим с горных отрогов, я на всякий случай переспросил его, не из усадьбы ли сеньора Фэрвелла он приехал. «Нет, не оттуда», – ответил возница. «Так вы не из Là-bas?» –пролепетал я, стуча зубами. «Ну да, оттуда, но этого сеньора я не знаю», – пробурчало это Божье созданье. Тогда до меня дошло то, что для людей толковых должно было быть очевидным. Фэрвелл – это ведь псевдоним знаменитого критика. Попытался вспомнить настоящее имя. Звали его вроде Гонсалес, но фамилия куда-то ускользала, и я стал мучиться, говорить ли, что меня пригласил сеньор Гонсалес, или благоразумно промолчать. Решил смолчать, откинулся на козлы и закрыл глаза. Кучер поинтересовался, как я себя чувствую. Тут, при звуке его голоса, приглушенного ветром, и вспомнилась настоящая фамилия Фэрвелла: Ламарка. «Я приглашен сеньором Гонсалесом Ламаркой», – с облегчением воскликнул я. «Сеньор вас ждет», – ответил крестьянин. Когда Керкен с его птичками остался за спиной, я почувствовал себя триумфатором. В Là-basФэрвелл уже поджидал меня в компании одного молодого поэта, чье имя оказалось мне незнакомо. Оба находились в гостиной, хотя назвать ее так можно было с большой натяжкой – скорее, библиотека или охотничья зала – так много было там энциклопедий, словарей и всяких сувениров, которые Фэрвелл привез из путешествий по Европе и Северной Африке, а еще дюжина голов животных, в том числе двух пум, добытых отцом Фэрвелла. Как и следовало ожидать, разговор между ними шел о поэзии, и хотя он прервался в связи с моим прибытием и устройством в комнатке на втором этаже, но потом тут же возобновился. Помню, как мне не терпелось поучаствовать, что и было мне любезно предложено, но я предпочел остаться в роли слушателя. Проявляя огромный интерес к литературной критике, я ведь еще и сам писал стихи, а тут сработала интуиция: пускаться в живую, острую, профессиональную дискуссию означало бы для моего некрепкого суденышка болтанку в бурных водах. Помню, мы пили коньяк, а еще помню, как, разглядывая фолианты на полках, почувствовал себя глубоко несчастным. Временами Фэрвелл хохотал – казалось, слишком уж громко. Каждый раз, когда это происходило, я поглядывал на него исподтишка. Он напоминал Пана, или Бахуса в своем притоне, или полубезумного конкистадора, одичавшего в каком-нибудь форту на дальнем юге. Молодой человек, наоборот, смеялся тонким голосом, похожим на проволочку – нервную такую струнку, и смех его подтягивался вослед солидным похохатываниям Фэрвелла, будто стрекоза за гадюкой. В какой-то момент Фэрвелл объявил, что ожидаются еще гости, приглашенные на ужин. Я потупил глаза и навострил уши, но гостеприимный хозяин был явно настроен на сюрприз. Потом я вышел прогуляться по усадьбе. Ну и заблудился. За садом простиралось поле, диковатый пейзаж, поодаль тень деревьев, где хотелось укрыться. Было невыносимо зябко и сыро. Завидев какую-то хижину, скорее барак, окна которого светились, поспешил туда. Слышались смех мужчин и возмущенные восклицания женщины. Дверь барака была приоткрыта. Залаяла собака. Постучав и не дождавшись ответа, я вошел внутрь. Вокруг стола сидели трое работников Фэрвелла, а у печи, где горели дрова, хлопотали две женщины, одна старая, другая молодая. Увидев меня, они подошли и взяли мои руки в свои, шершавые на ощупь. «Как хорошо, что вы пришли, падре», – сказала старуха, становясь на колени и целуя руку. Я почувствовал страх и брезгливость, но руки не отнял. Мужчины встали. «Присаживайтесь, падре», – сказал один из них. И только тогда меня как ударило, что я до сих пор красуюсь в сутане, которую набросил на себя, собираясь в дорогу. Следовательно, приехав, я был настолько не в своей тарелке, что забыл переодеться в комнате, выделенной для меня хозяином. На самом деле я только подумал о том, что надо переодеться, но вместо этого спустился обратно к Фэрвеллу в охотничью залу. И еще в той крестьянской хижине я предположил, что у меня так и не будет времени переодеться перед ужином. И еще – что у Фэрвелла, скорее всего, сложится обо мне ложное впечатление. Наконец, подумалось и о приглашенных «сюрпризах» – наверняка весьма уважаемых персонах, – как же я предстану пред их очами в сутане, покрытой дорожной грязью, паровозной копотью и пылью тропинок, ведущих в Là-bas,эдаким желторотым монашком, который робко, не поднимая глаз, отведывает кушанья в дальнем конце стола? И тогда до меня донесся голос одного из крестьян, приглашавшего присесть. В каком-то трансе я сел. Женский голос предлагал попробовать это, попробовать то. Кто-то заговорил о больном ребенке, но произносил слова так невнятно, что было неясно, то ли ребенок хворает, то ли уже умер. А я-то что могу сделать? Если умирает, то позовите врача. Так он давно умер? Тогда надо заказать на девять дней заупокойную мессу в честь Девы Марии. Прибрать могилку, выполоть пырей, им все зарастает. Поминайте его в молитвах. Боже мой, я же не могу поспеть всюду. Не могу, не могу. «А он был крещен?» – услышал я собственный голос. «Да, отец наш». – «А, ну тогда все в порядке». – «Хотите хлеба, падре?» – «Можно попробовать». Передо мной положили целую краюху. Черствый, каким обычно и бывает крестьянский хлеб, испеченный в глиняной печи. Отломив кусочек, поднес к губам. Вот тогда мне и привиделся впервые тот самый поседевший юнец, стоявший в дверном проеме. Но это от нервного истощения. Дело было в конце пятидесятых, ему, юнцу этому, было тогда лет пять, самое большее шесть, а террора, доносов, преследований и в помине не было. «Как вам хлебушек, падре?» – спросил крестьянин. Хлеб во рту пропитывался слюной. Ответил что-то вроде: хорош, очень вкусный, очень, лучше не бывает, нектар богов, сладостная пища родины, что бы без него делали наши трудяги поденщики в поле, роскошный, великолепный. И правда, хлеб был неплох, он вполне годился, чтобы заморить червячка. Поблагодарив хозяев за угощение, я поднялся, благословив знамением пространство перед собой, и вышел на свежий воздух. Снова послышался собачий лай, качались ветви деревьев, словно в зарослях скрывалась какая-то животина, следившая за моими блужданиями в поисках дома Фэрвелла, который, впрочем, не замедлил возникнуть в темноте, словно трансатлантический лайнер под южными звездами. Когда переступил порог, ужин еще не начался. Я решил проявить характер и не стал снимать сутану. Некоторое время проторчал в охотничьей зале, листая редкие издания. На полках по одной стене было собрано самое лучшее, самое изысканное из чилийской поэзии и прозы, причем каждый экземпляр имел дарственную надпись автора, посвященную Фэрвеллу: слова простые, любезные, пылкие или панибратские. Я отметил про себя, что кабинет нашего амфитриона можно сравнить с гаванью, в которой находили убежище на долгое или короткое время все литературные экипажи моей родины, начиная от легких яхт до уважаемых сухогрузов, от пропахших рыбой лодок до экстравагантных броненосцев. Нет, не случайно несколько минут назад дом этот напомнил мне трансатлантический лайнер! Но сравнение вотчины Фэрвелла с портом, сказал я себе, ближе к реальности. Со стороны террасы послышался тихий шорох. Охваченный любопытством, я открыл одну из дверей-окон и вышел. Воздух стал еще более холодным, на террасе не было никого, но в саду вырисовывалась продолговатая, словно от гроба, тень, направлявшаяся к ветвистому навесу – подобию греческой сцены, которую Фэрвелл воздвигнул рядом с диковинной конной статуей, маленькой, сантиметров сорок ростом, бронзовой, на порфировом пьедестале, будто вечно выезжающей из аллеи. На небе, свободном от туч, четко вырисовывалась луна. Ветер раздувал полы сутаны. Я решился и двинулся к месту, где скрылась тень. И я увидел его рядом с конной фантазией Фэрвелла. Он стоял спиной ко мне, в вельветовом жакете и шарфе, в шляпе с узкими полями, сдвинутой на затылок, и в каком-то трансе бормотал слова, которые не могли быть адресованы никому, разве что луне. Я застыл, подобный отражению скульптуры, левая нога в воздухе. Это был Неруда. Не знаю, наверное, это и было тогда самым главным событием. Стоял Неруда, в нескольких метрах от него я, и еще ночь, луна, конная статуя, чилийские кусты и деревья, тенистое великолепие моей родины. История, подобная этой, вряд ли тронет того поседевшего юнца. Он-то не был знаком с Нерудой. Он не познакомился ни с одним из великих писателей нашей республики при подобных судьбоносных обстоятельствах, о каких я рассказываю. И тогда было неважно, что происходило до того, что после. Я видел Неруду, читавшего стихи луне, земле, звездам, чью природу мы не знаем, разве только догадываемся. И рядом был я, дрожащий от холода в своей сутане, которая казалась мне в тот момент слишком большой по размеру, целым кафедральным собором, а внутри я, голышом с широко открытыми глазами. А Неруда напевал фразы, и их было трудно расслышать, но смыслом их я был пропитан с первого звука. Я стоял не шевелясь, со слезами на глазах, бедный клирик, затерянный в пространствах родной страны, жадно внимая словам нашего самого знаменитого поэта. И сейчас, опираясь на локоть, я спрашиваю себя: тот поседевший юнец пережил хоть одну подобную сцену в своей жизни? Я всерьез спрашиваю: хотя бы одну пережил? Я читал его книги. Таясь и урывками, но читал. В них нет даже намека ни на что подобное. Есть скитания, уличные драки, ужасные убийства в переулке, дозированный секс как дань моде, похабщина и бесстыдство, есть даже описание сумерек в Японии, не в нашей стране, есть преисподняя и хаос, ад и хаос, пекло и хаос. Бедная моя память, бедная моя репутация… А потом был ужин. Этого почти не помню. Неруда сидел рядом с женой. Фэрвелл – с молодым поэтом. Ну а я… Спрашивали – почему в сутане? Я улыбался. Хитро так улыбался. Мол, не было времени переодеться. Неруда прочел стихотворение. Вместе с Фэрвеллом они припомнили что-то довольно замысловатое из Гонгоры. Юный поэт оказался, конечно, поклонником Неруды. Неруда прочел еще что-то. Кушанья были изысканными. Салат по-чилийски, куски дичи в беарнском соусе, жареный морской угорь, доставленный Фэрвеллу с побережья. Вино собственного урожая. Похвалы со всех сторон. На десерт, который растянулся до глубокой ночи, Фэрвелл на пару с супругой Пабло ставили пластинки на зеленый граммофон, для услаждения слуха поэта. Танго. Пел какой-то отвратительный голос, смаковавший грешные истории. И вдруг, наверное из-за чрезмерных ликерных возлияний, мне стало плохо. Помню, как вышел на террасу и уставился на луну, которая совсем недавно была благодарной слушательницей нашего поэта. Опершись на массивную подставку для герани, постарался унять тошноту. За спиной послышались шаги. Обернулся. Подбоченясь, на меня смотрел Фэрвелл, гомеровская фигура. Спросил, не плохо ли мне. Я ответил, что нет, просто небольшое опьянение, сейчас на ветру, дующем с полей, пройдет. Из-за тени не было видно, но я чувствовал, что Фэрвелл улыбается. До нас доносилась приглушенная мелодия танго, под которую пел тонкий и жалобный голос. Фэрвелл спросил, каково мое впечатление от Неруды. Ну что я могу сказать, ответил я, он великий из великих. Какое-то время молчали. Потом Фэрвелл сделал пару шагов ко мне, и стало видно его лицо старого греческого бога, разбуженного луной. Краска стыда залила мое лицо: рука Фэрвелла дотронулась до моей талии. Он стал говорить о ночах, воспетых итальянскими поэтами, о ночи Якопоне да Тоди. [5]О ночи Самобичующихся. [6]«Вы их читали?» Я что-то промямлил. Ответил, что в семинарии пролистал книги Джакомино да Вероны и Пьетро да Бескапе, а еще Бонвесина де ла Ривы. [7]Тогда рука Фэрвелла дернулась, будто червяк, разрубленный пополам мотыгой, и убралась с моего пояса, но улыбка осталась на лице. «Ну а Сорделло?» – спросил он. «Какой Сорделло?» – «Ну, трубадур, – ответил Фэрвелл. – Сордель или Сорделло». [8]«Нет» – ответил я. «Взгляните на луну», – предложил он. Я бросил взгляд. «Нет, не так, – сказал Фэрвелл. – Повернитесь и смотрите». Я повернулся. За моей спиной Фэрвелл бормотал: «Сорделло, какой Сорделло? Тот, что кутил с Риккардо де Сан Бонифацио в Вероне и с Эццелино да Романо [9]в Тревизо, – какой Сорделло? (В этот момент рука Фэрвелла вновь оказалась на моих бедрах!) Сорделло – тот, что катался на лошадях с Рамоном Беренгером и Карлом I Анжуйским [10]и при этом ничего не боялся, ничего не боялся, ничего!» Я помню, что в тот миг сознавал только страх, хотя предпочел не отрывать глаз от луны. Испуг мой происходил не оттого, что рука Фэрвелла устроилась на моих бедрах. Не из-за руки это было и не из-за ночи, которую прорезывала луна более колкая, чем пронизывающий горный ветер, и не из-за граммофонной музыки, которая пьянила гостей отравой бесстыжих танго, и не из-за голоса Неруды, или его жены, или его любимого ученика – из-за чего-то другого, но чего, Святая Дева Кармен? – спрашивал я себя в ту минуту. «Сорделло, какой Сорделло? – повторил голос Фэрвелла за моей спиной. – Сорделло, воспетый Данте, Сорделло, воспетый Паундом, [11]Сорделло, написавший Ensenhamens d'onor [12]и похоронную песнь по Блакацу [13]». Рука Фэрвелла уже ползла с бедер на мой зад, при этом легкий ветер озорников из Прованса загулял по террасе, шевеля полы сутаны, а я подумал: так, второй приступ, ага! – миновали. Посмотрим, наверняка сейчас будет третий. И подумал: я просто стоял на песке у моря. И из моря показалась бестия. И подумал: и тогда подошел один из семи ангелов, у которых было семь чаш, и заговорил со мной. И подумал: все потому, что его грехи достали до небес и Бог смирился с неправедностью его. И тут послышался голос Неруды, который стоял за спиной Фэрвелла так же, как Фэрвелл стоял за мной. И поэт наш спросил Фэрвелла, о каком Сорделло мы говорили, о каком Блакаце, и Фэрвелл обернулся к Неруде, а я обернулся к Фэрвеллу и уперся в его спину, которая держала вес двух библиотек, а то и трех, и голос Фэрвелла переспросил: «Сорделло, какой Сорделло?» – а голос Неруды ответил, что именно это он и хотел знать. Голос Фэрвелла: «А ты не знаешь, Пабло?» Неруда: «Не знаю, хрыч старый, не знаю». Тут Фэрвелл засмеялся и взглянул на меня, нахально и по-свойски, словно говоря: да будьте вы поэтом, если хотите, но пишите критику и читайте, докапывайтесь, читайте, докапывайтесь, а Неруда все требовал: «Так ты мне скажешь или нет?» – в ответ Фэрвелл стал читать из «Божественной комедии», Неруда тоже стал цитировать оттуда, но это уже не имело никакого отношения к Сорделло, а Блакац был лишь предлогом, чтобы заняться каннибализмом, поскольку все мы должны были отведать сердце Блакаца, потом Неруда и Фэрвелл, обнявшись, дуэтом исполнили несколько стихов Рубена Дарио, в то время как мы на пару с молодым поклонником Неруды уверяли друг друга, что перед нами: один – гордость чилийской поэзии, другой – гордость чилийской литературной критики, – и пили за их здоровье, и провозглашали тосты снова и снова. Сорделло, какой Сорделло? Сордель, Сорделло, какой Сорделло? Все те выходные эта фразочка повсюду меня преследовала, легкая, летящая, журчащая и забавная. Свою первую ночь в Là-bas япроспал, как ангелочек. Во вторую ночь читал допоздна «Историю итальянской литературы XIII, XIV и XV веков». Утром в воскресенье подъехали еще две машины с гостями. Все они были хорошими знакомыми Фэрвелла и Неруды, даже молодого поклонника последнего, но не моими, чем я и воспользовался, пока они приветствовали друг друга, чтобы затеряться с книгой в лесу, который начинался сразу по левую сторону от основного здания усадьбы. По другую сторону, если забраться на холм, наряду с лесными красотами можно было созерцать виноградники Фэрвелла, земли под паром, пшеничные и ячменные поля. На тропинке, которая вилась по пастбищам, я заметил двух крестьян в соломенных шляпах, скрывшихся в ивах. За ивовой рощицей росли внушительные деревья, которые, казалось, пропарывали голубое безоблачное небо. А еще дальше виднелись высокие горы. Как тут не вспомнить «Отче наш»? Закрыл глаза. Неужели мне больше нечего желать? Разве что послушать шум реки. Журчание прозрачной воды по камням. Когда я продолжил свой путь по лесу, в ушах еще звучало «Сордель, Сорделло, какой Сорделло?» – но что-то в глубинах леса заглушило эту бодрую музыкальную фразу. Вышел совсем не в ту сторону. Не к усадьбе, а к садам, казалось, Богом забытым. Однако я не удивился, заслышав лай собак, которых не было видно, и, пройдя сады, где под щедрой тенью авокадо произрастали всякие фрукты и зелень, достойные Арчимбольдо, [14]увидел мальчика и девочку, нагих, словно Адам и Ева, которые в какой-то канавке занимались срамным делом. Мальчик заметил меня, из носа на грудь у него свисали сопли. Я скорее отвел взгляд, но не смог избежать тошнотворного чувства. Мне показалось, что я свалился в некую желудочно-кишечную пустоту. Когда, наконец, пришел в себя, мальчик и девочка исчезли. Далее я оказался где-то вроде курятника. Хотя солнце стояло еще высоко, все куры спали по своим грязным насестам. Снова послышался собачий лай, и кто-то, довольно грузный, с треском заворочался в кустарнике. Я решил, что это ветер. Затем были загон для скота и свинарник. Это пришлось обогнуть. По другую сторону высилась араукария. Как сюда попало это величавое и прекрасное дерево? Видно, воля Божья забросила его сюда, пояснил я сам себе. Прислонился к араукарии, чтобы перевести дух. Безмятежность мою нарушили далекие голоса. Пришлось пуститься дальше, мне показалось, это кричали по мою душу Фэрвелл, Неруда и их приятели. Миновал канал, по которому лениво текла зеленоватая вода. Здесь росли крапива и другие сорные травы и валялись камни, но в их хаосе чувствовался определенный замысел. Кто же их так раскидал? – озадачился я. В воображении возник мальчик, одетый в полосатый свитер из овечьей шерсти, очень большой для него, который в вечерних сумерках задумчиво разгуливал по пустынной огромности поля. Еще представилась полевая мышь. И кабан. А еще мертвый ястреб, упавший в маленькой лощине, куда вряд ли кому-нибудь стукнет в голову забрести. Ощущение заброшенности этого места не пропадало. За каналом я набрел на деревья, между которыми были протянуты веревки, а на них сушилось только что выстиранное белье. Его раздувал ветер, доносивший запах дешевого мыла. Раздвинув простыни и рубашки, я увидел метрах в тридцати двух женщин и трех мужчин, стоявших кривым полукругом, их руки закрывали лица. Именно закрывали. Казалось, это было бессмысленно, но именно так. Закрывали лица! И хотя это длилось недолго – увидев меня, трое из них двинулись в мою сторону, – мимолетное зрелище это (и то, что за ним последовало) сильно повлияло на ту физическую и душевную гармонию, на то благодушие, которое я испытал в общении с природой. Помню, я попятился, запутался в простыне и, пару раз взмахнув руками, завалился бы, наверное, на спину, если бы один из крестьян не кинулся подхватить меня. В замешательстве я скорчил гримасу благодарности. Это осталось в памяти. Моя смущенная улыбка, торчащие зубы, голос в полевой тишине, произнесший соответствующие слова. Обе женщины спросили, не плохо ли мне. Так и сказали: «Как вы себя чувствуете, святой отец?» Я еще удивился, откуда они меня знают, потому что в вечер прибытия встретил двух крестьянок, но это были не они. К тому же сейчас-то я был не в сутане. Но слухи летают птицами, и эти женщины, которые работали не в Là-bas,a в соседнем имении, уже обо мне знали, и не исключено, что они специально пришли к усадьбе Фэрвелла в надежде на мессу, а для него это не составило бы никакого труда, так как в усадьбе имелась часовня, однако Фэрвеллу это и в голову не пришло, ясное дело, ведь его почетным гостем был Неруда, который хвастал, что он атеист (это, между прочим, для меня не факт), к тому же выходные проходили под знаком литературы, а не теологии, и за это, конечно, я голосовал обеими руками. И все же было очевидно, что крестьянки прошли через все эти пастбища и засеянные поля по еле заметным тропкам с единственной целью меня встретить. Вот я им и попался. Они на меня посмотрели, а я на них. И что же я увидел? Круги под глазами. Потрескавшиеся губы. Лоснящиеся скулы. И смирение, которое не походило на христианское. Смирение как бы из другого измерения. Его нельзя было назвать чилийским, хотя женщины были чилийками. Смирение это не происходило ни из Чили, ни из Америки в целом, ни даже из Европы, Азии или Африки (правда, культуру последних двух континентов я знал плохо). Это смирение походило на что-то внеземное. Терпение, которое едва не переполнило мою чашу терпения. Их слова, перешептывания заполнили пространство полей, рощи, колеблемые ветром, волнующиеся травы, огороды и сады. Я начал беспокоиться, потому что, наверное, в доме меня ждали и Фэрвелл или еще кто-нибудь гадали о причинах моего долгого отсутствия. А женщины только улыбались, или делали серьезную мину, или изумлялись, их лица, только что бесстрастные, окрашивались то загадочным, то просветленным выражением, они обменивались между собой вопрошающими жестами или восклицаниями без слов. Тем временем двое мужчин, оставшихся поодаль, уже развернулись и стали уходить, но не по прямой, не просто в сторону гор, а зигзагом, переговариваясь, показывая друг другу какие-то приметы на полях, будто и в них живописный пейзаж вызывал потребность поделиться вслух какими-то особыми наблюдениями. Третий крестьянин, который хватал меня за руку, когда я падал, и составлял женщинам компанию, остался на месте метрах в четырех от нас. Повернув голову, он внимательно проследил взглядом за своими товарищами, будто его очень интересовало, что делают или на что смотрят остальные, и он боялся пропустить малейшую подробность. Помню, как я жадно рассматривал его лицо, отмечая каждую деталь и пытаясь угадать характер и психологию этого типа. В памяти, однако, осталось только то, что он был непривлекателен, даже уродлив, со слишком короткой шеей. На самом деле все они отличались неприглядностью. Женщины были некрасивы и говорили что-то непотребное. Мужик был безобразен, а его недвижность тоже была непотребной. Удалявшиеся крестьяне были мордаты, а их галсы по полю непотребны. И прости меня, да и их, Господи. Души, заблудшие в пустыне. Я повернулся и ушел. На прощание поулыбался, что-то сказал, спросил, как пройти к главному зданию усадьбы, и ушел. Одна из женщин вызвалась меня проводить. Я отказался. Женщина настаивала: «Я вас сопровожду, падре», так и сказала «сопровожду», – подобное слово, произнесенное этими губами, меня развеселило. «Ты меня сопровождишь?» – переспросил я, сдерживая смех. «Я самая», – ответила она, так и сказала «самая». Тот ветер конца пятидесятых годов до сих пор тихо носит эти слова или похожие на них по бесконечным извилинам памяти, которую я даже не признаю своей. Но тогда я заколыхался от распиравшего изнутри смеха, меня буквально корчило. «Не стоит, – говорил я, – хватит, хватит на сегодня». Развернулся и ушел быстрым шагом, размахивая руками и с улыбкой на лице, которая прорвалась – едва я скрылся за спасительным занавесом сушившегося белья – хохотом, а шаг перешел в рысцу, напоминающую солдатский бег. В саду Là-basрядом с террасой из благородного дерева гости Фэрвелла слушали, как читает Неруда. Я тихонько пристроился рядом с его молодым учеником, который покуривал с угрюмым и сосредоточенным видом, пока фразы великого поэта расходились по земляной коре или пробивались через ладно скрепленные балки террасы и устремлялись ввысь, к бодлеровским облакам, чередой пересекавшим распахнутые небеса родины. В шесть вечера я уехал. Так закончился мой первый визит в Là-bas.До Чильяна меня подвез на автомобиле один из гостей Фэрвелла. Успели прямо к поезду, на котором я вернулся в Сантьяго. Так я причастился к миру литераторов. Сколько впечатлений, зачастую противоречивых, толпилось в моем мозгу в последующие ночи, когда я размышлял, ворочаясь в полусне! То и дело всплывал силуэт Фэрвелла, темный и округлый, как бы вырезанный в высоком дверном проеме. Сунув руки в карманы, он будто пристально созерцал ход времени. Еще Фэрвелл представлялся сидящим в кресле в своем клубе, нога на ногу, рассуждающим о литературном бессмертии. Ах, это литературное бессмертие! В другой раз мне грезилась целая группа фигур, ухвативших друг друга за пояс, будто они отплясывали конгу 15по всему салону, стены которого были сплошь увешаны картинами. «Танцуйте, падре», – говорил мне кто-то невидимый. «Я не могу, – отвечал я, – мне не позволяет обет». В одной руке у меня была тетрадочка, другой я записывал набросок литературной рецензии. Книга называлась «Ход времени». Ход времени, шаг времени, скрипение лет, пропасть иллюзий, крушение всех устремлений, кроме заботы выжить. Тем временем змея танцующих конгу [15]неумолимо, синкопами, приближалась к моему углу, попеременно и в унисон поднимая то левые ноги, то правые, то левые, то правые, и среди танцующих я различил Фэрвелла, державшего за пояс одну сеньору из самого высшего общества Чили тех лет, сеньору с баскской фамилией, которую я, к сожале


























