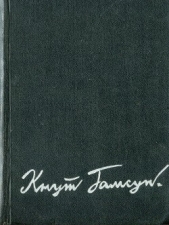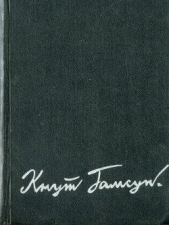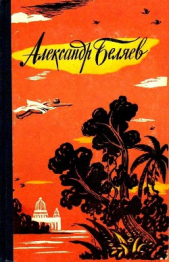Избранные произведения в трех томах. Том 3

Избранные произведения в трех томах. Том 3 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— В одном восточном царстве появился винокур. Так сказать, первый в этом царстве производитель вина. Царь узнал, сказал, что безобразие, что этому типу надо срубить голову, чтобы не насаждал разврата и разложения. Позвали, конечно, винокура к царю, так и так, вот что с тобой будет сделано. Винокур взмолился: ведь это же вовсе не разврат и не разложение, а напиток чудесного действия. Он способен слепого сделать зрячим, вернуть руки безрукому и нищего превратить в миллионера. «Если это так, — сказал царь, — то я не только тебя прощу, но милость моя пойдет еще дальше — ты станешь моим придворным винокуром». Да вы пейте, Константин Романович, пейте.
— Давайте уж вместе. Что это я один буду пить.
— Ну давайте. За ваше здоровье! Так вот, устроили испытание. Посадили в одну темную, без окон, залу слепого, безрукого и нищего с дороги. Поставили перед каждым по кувшину доброго вина. Пьют сердешные, царя хвалят, что устроил им такое угощение. Царь сидит за ширмой, слушает, наблюдает. Вот поднапились ребята, слепой и говорит: «Светло как стало! Эх, и окна здесь замечательные!» Безрукий закричал, входя в раж: «К черту окна! Сейчас встану, возьму стул и вышибу все ваши окна!» Нищий, валясь под стол, успел пробормотать: «Бей, не стесняйся. За все плачу».
Орлеанцев усмехнулся.
— Что, смешно? — спросил довольный Крутилич.
— Не так смешно, как грустно, — ответил Орлеанцев. — Многие из нас ведут себя, как тот или иной из этих трех приятелей, но за собой этого не замечают и думают, что оно относится только к их ближним. Как считаете, Крутилич? Вы не бывали в положении этого слепого, этого безрукого или этого разгулявшегося беспортошника?
Крутилич пожал плечами. Тон, каким Орлеанцев сказал о беспортошнике, ему не понравился. Слишком многозначительным тоном сказал это Орлеанцев.
— Что ж, вернемся к нашему разговору, — заговорил Орлеанцев, не получив ответа от Крутилича. — Ваша версия о том, что бумаги хранились в сундуке, неверна. Они были подшиты в папке главного инженера.
— Только в таком случае они и могут быть фальшивыми! — воскликнул Крутилич. — Любая экспертиза докажет, что они туда всунуты кем–то значительно позже даты, которая на них стоит. Мои бумаги подлинные, они хранились в сундуке, пока вы их у меня не забрали и не унесли неизвестно куда. Я бумаг никуда не носил, ничего об этом не знаю.
— Но ведь на вашей докладной, в авторстве которой вы сами признались перед комиссией, стоит дата: январь. Именно в ту пору бумаги и были подшиты в папку.
— Январь–то январь, но, надписав этот январь, я документы запер в сундук, а не понес к директору. Я же сознавал, что работа была не закончена, а полуфабрикатами, как говорится, Константин Романович, не торгуем. Нет.
— Так что же, по–вашему, я таскался с этими бумагами, я их отдавал директору, я их куда–то подшивал?
— Не знаю, Константин Романович, ничего не знаю, прошу меня извинить.
Одутловатому, обрюзгшему от беспокойной жизни лицу Орлеанцева не шло выражение озабоченности и растерянности. С таким лицом Орлеанцев пришел к Крутиличу. Сейчас на нем снова была привычная, может быть, не такая непринужденная, как обычно, — может быть, чувствовались некоторые усилия Орлеанцева сделать ее такой, — но все же это была его привычная, самоуверенно–снисходительная улыбка.
— Что же это вы такой забывчивый, дорогой мой? — сказал Орлеанцев. — Каждый раз вашу память надо стимулировать, понуждать к работе. Не склероз ли у вас, Крутилич? Что–то рановато. Хотя такая беспорядочная жизнь… Словом, Крутилич, такого–то января текущего года вы собственной рукой передали свои бумаги секретарю директора и собственной рукой получили у нее в этом расписку. Прошу полюбоваться.
Орлеанцев извлек из кармана пиджака лист бумаги, на котором ошеломленный Крутилич прочел: «Я, З. П. Ушакова, секретарь директора Металлургического завода, 26 января с. г. получила от инженера т. Крутилича докладную записку и приложение к ней на 17 (семнадцать) листах об оборудовании электроохладительного устройства в вагоне–весах для немедленного вручения директору тов. Чибисову. З. Ушакова».
Не успел Крутилич опомниться, как бумажка уже снова вернулась в карман Орлеанцева.
— Дорогой мой, даже стиль расписки и тот выдает вас с головой. Кто же еще такую бюрократическую загогулину способен выдумать!
— Но ведь это же вранье! — сказал Крутилич.
— Но ведь расписка–то подлинная. И та, которая ее подписала, принимая бумаги от вас, где угодно подтвердит, что документы ей приносили вы. Вы, вы, вы лично, что она принимала их именно от вас, от вас, а не от кого другого.
Крутилич налил рюмку коньяку. Выпил. Налил еще. Выпил. Проклятый Орлеанцев снова поймал его в какую–то ловушку.
— Чего же вы хотите? — спросил он злобно.
— Вот это уже нормальный разговор, — сказал Орлеанцев. — Речь, как говорится, не мальчика, а мужа. Хочу, чтобы вы не дожидались, когда вас скушают со всеми вашими потрошками, а чтобы за себя боролись, боролись за свою правоту. Вы должны пойти и пресечь всю эту болтовню о подложности документов. — Орлеанцев вновь извлек из кармана расписку, бросил ее на стол перед Крутиличем. — У вас есть и еще материалы к вашему предложению, если порыться в сундуке. У вас есть эта расписка наконец. Если она, — Орлеанцев указал пальцем на бумажку, — почему–либо исчезнет, вам стоит, между прочим, учесть, Крутилич, что та, которая ее писала, существует и всегда может восстановить документ. Вы меня понимаете? Итак, дорогой мой, действуйте, действуйте. Вы старый, опытный боец, не мне вас учить, — закончил Орлеанцев, подымаясь.
Уходил он вновь — и в который раз! — как победитель. Нет, не мог, не мог подняться вровень с ним Крутилич, не говоря уже о том, чтобы его перерасти. Действительно же, вел он себя сегодня, как тот захмелевший нищий, который вообразил себя богачом.
19
Мамаша Зои Петровны особой щепетильностью не страдала. В этом предположении Гуляев не ошибся. Те несколько сотенных, которые, вырвав из своего бюджета, он вложил ей в руку со словами: «Поправятся дела, отдадите», — она приняла как должное. «Лучше, если Зоя Петровна этого не будет знать», — добавил он, следя за тем, как проворно старуха прячет деньги в карман своего старого суконного платья под передником. «А как же, а как же! — согласилась она. — Останется между нами».
Гуляев заходил к Зое Петровне часто, заходил днем или даже утром. Позже не мог, позже его звал театр. Спектакль о семье Окуневых шел с большим успехом, и Гуляев был занят в нем почти ежедневно.
Зоя Петровна огорчалась, что все еще не может встать и посмотреть спектакль, о котором так много говорят в городе. «Но мне уже лучше, значительно лучше, — уверяла она. — Скоро выйду на улицу, а там — и в театр». Но так она только говорила, состояние ее по–прежнему было скверным, она не ощущала в себе ни малейших сил для того, чтобы встать. Когда дело доходило до еды, она с трудом заставляла себя съедать то, что готовила ей мать. Она удивлялась матери — как хозяйственно, как бережливо расходует та деньги, полученные при увольнении с завода. Время идет, а мать успокаивает: «Не волнуйся, не волнуйся, лежи, на месяц–то, на два еще за глаза хватит. Вот уж сразу видно, что не хозяйка ты, что отошла от домашней жизни и того не знаешь, как теперь продукты на рынке подешевели. Теперь, милая, на ту же двадцатку, на которую раньше день жили, теперь на нее и два, а то и три дня протянешь».
Посещения Гуляева радовали Зою Петровну. С ним было так хорошо, так интересно, и вместе с тем легко, просто. Он прожил большую жизнь и мог неистощимо рассказывать десятки, сотни человеческих историй; одни из них были смешные, другие трагические, но все такие, что очень волновали. Старый актер прекрасно знал человеческую душу, чужая душа не была для него потемками, он умел в ней разбираться.
Несколько раз заходил к Зое Петровне и Орлеанцев. С ним разговаривать она не хотела, лежала молчаливая, отворотясь к стене. Он приносил мандарины, шоколад, принес бутылку портвейна. Зоя Петровна после его ухода говорила матери: «Пожалуйста, выброси это все». Мать соглашалась: «Конечно, конечно, Зоенька». Но Зоя Петровна знала, что старуха никуда ничего не выбросит и потихоньку будет давать Ниночке. Но спорить и настаивать не могла.