Казачка
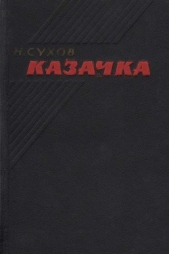
Казачка читать книгу онлайн
Роман "Казачка" замечательного волгоградского писателя-фронтовика Николая Васильевича Сухова посвящен четырем годам жизни обыкновенной донской станицы. Но каким годам! Разгар Первой мировой войны, великие потрясения 1917 года и ужасы Гражданской войны — все это довелось пережить главным героям романа. Пережить и выжить, и не потеряться, не озвереть в круговерти людских страстей и жизненных коллизий.
Роман Николая Сухова успешно продолжает и развивает славные традиции истинно народного повествования, заложенные в знаменитой эпопее М. Шолохова "Тихий Дон".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пулеметы брать аль нет?
— Да перестань рявкать!
— Каледина застрелили!
— Вылетай строиться!
— Кто шапку мою надел?
— Где застрелили?
Вскоре выяснилось, что атамана Каледина не застрелили, а он сам в себя пустил из револьвера пулю. Перед тем будто у областного начальства было заседание, и они, эти большие начальники, здорово между собой повздорили. Все якобы стали нападать на Каледина — и Богаевский, и Карев, и другие, — обвиняя его в том, что казаки отвернулись от войскового правительства именно через него: он-де пообещал дать иногородним землю. И потому, мол, так получилось: красные прут на область, а защищать ее ни казаки, ни иногородние не хотят: казаки обиделись, что их, дедовскую, землю собрались транжирить; иногородние же — на то, что земли им еще не дали. А добровольческую армию, что кое-как еще копошилась, Корнилов уводил на Кубань: ее, эту армию, советские войска взяли со всех сторон так, что ей уже пищать было впору. Каледин будто разгневался при этих нападках, вылез из-за стола и, сказав сердито: «Ну, и шут с вами! Как хотите, так и расхлебывайтесь!» — ушел домой и израсходовал на себя патрон.
Повздорили областные начальники или не повздорили — никто из них об этом Пашке не докладывал, а молва такая в казарме была. А главное, по поговорке, — как бы ни болел, а околел. Каледина-то уже отпоминали! И это Пашку огорошило. А то, что стряслось еще через какую-нибудь неделю-полторы, и вовсе сбило его с толку.
После смерти Каледина малый круг — так назывался неполный съезд казачьих делегатов — вручил атаманский пернач генералу Назарову. Но не успел этот генерал освоиться в новой должности — перед тем он был походным атаманом, — как в Новочеркасск с кучей всадников ворвался какой-то Голубов, вроде бы из казачьих офицеров, разогнал круг, который как раз в это время заседал, схватил Назарова и начал учинять расправу. Сперва за городом прихлопнул самого Назарова, потом — тех, кто был к атаману поближе, и еще, пожалуй, не одну сотню офицеров, в том числе и всех Пашкиных начальников и благодетелей.
И понял Пашка: эдак чего доброго и до таких, как он, дойдет черед, и его, подвернись он под веселую руку, выведут за город… Да и что за корысть служить теперь атаманам, ежели на них пошел такой мор! Грудь в крестах то ли будет, то ли нет, а что голова попадет в кусты — это вернее. Плюнул на все Пашка и дал тягача.
Думал дорогой: хватит, хорошенького понемногу! Послужил — и довольно. Не его вина, что служба оказалась короткой. От нее он не отвиливал. Кому только служить теперь? Ничего ему в конце концов не надо: ни чинов, ни наград. Вот мясоедом женится — и подальше от всего этого. Отец будет в хате, а он с молодой женой в горнице. Заживет, как говорится, припеваючи. Не тронь его — и он никого не тронет.
А пришел домой, глянул на свою запакощенную горницу, где собирался справлять свадьбу — в этой комнате он как раз застал отца: тот выбрасывал из нее в разбитое окно снег, — и заорал на бедного старика, едва лишь поздоровавшись с ним, не дав ему и нажалобиться вволю:
— Примолвил их тут!.. К черту! На гривну доходу, на целковый убытку. Я вот их отважу, вмах! Клюшкой, если кто-нибудь еще припрется сюда! Не посмотрю, кто там: атаман иль ревком. Всех по шеям!
Вот так-то он, новый служивый, уже будучи осведомлен отцом о хуторских делах, и принял председателя ревкома, первого поспешившего к нему гостя. Вполне понятно, что разговор их к обоюдному неудовольствию был совсем не таким, на какой рассчитывал Федюнин.
Они распрощались очень скоро, причем Федюнин, уходя, сухо пообещал хозяевам «образить горницу», как он выразился, на хуторской счет.
— Что-то, милушка, помнится мне, хуторским счетом будто не ты распоряжаешься, — ядовито заметил Андрей Иванович.
— Ничего, распорядимся и мы, — сдержанно ответил Федюнин.
Когда он, тяжело хромая, шел никем не провожаемый по двору, деревяшка его скрипела как-то по-особому — зло рычала, а не скрипела, и, может быть, поэтому на него и набросился обычно добродушный кобель. Отмахиваясь от него палкой, Федюнин столкнулся за калиткой с Федором и Надей.
Кобель, увидя новых людей, взял было сиповатым баритоном еще выше. Но вдруг оборвал и с извиняющимся скулежом, поджимая облезлый хвост, подскочил к Наде. Прыгая, увиваясь, начал к ней ласкаться.
— Трезор! Милый Трезорик, узнал меня! — сказала Надя и, потрепав его за длинные вислые уши, отвернулась: рассерженный вид Федюнина внушал ей нехорошие мысли, и ей было не до нежностей.
Ошибся! Ничего не попишешь! Вот оно как бывает: не узнаешь, где споткнешься, — с горечью сказал Федюнин, обращаясь к Федору и старательно избегая Надиного нетерпеливого взгляда. — Урядничек не очень-то нас привечает. В батю, извините, видно, пошел.
— Ну?! — резко и неопределенно вырвалось у Федора: то ли он спрашивал, то ли отрицал, то ли угрожал. — Может, ты, Семен Яковлевич, что-нибудь не так понял? Может, он через горницу это?
— Нет уж, Федор Матвеевич, все понятно. Чего там!.. Сам увидишь, идите, — и, резче обычного припадая на вербовку, направился по стежке в улицу.
У Федора на виске, над широкой, почти прямой бровью, у самого края папахи запрыгала синяя жилка. А у Нади так и застыл в глазах тревожный недоуменный вопрос.
Встретились они, неразлучные в недавнем друзья, как нельзя лучше. Пашка, посолидневший, но все такой же порывистый в движениях, вскочил с кровати, на которой он, одетым, примащивался отдохнуть, закричал с радостной улыбкой: «Вот они, герои!» — и бросился обнимать их. Сперва по-служивски, то есть троекратно, в обе щеки расцеловал Федора, сказав ему дружески-насмешливо и с каким-то скрытым намеком: «Ух, брат, ну и ощетинился ты — не подступись!» — (тот несколько дней перед тем не брился); затем расцеловал сестру, назвав ее «бабьим смутьяном».
Девочка-подросток, Игната Морозова дочка, что хозяйствовала у Андрея Ивановича, у родного дяди, как он стал бобылем, загремела самоваром, надоумленная Пашкой. Самого Андрея Ивановича, хмуро поглядывавшего на беспутную дочь и самочинного зятя, Пашка послал за водкой: «Нырни и достань!»
О многом он, пока старик ходил, успел порассказать друзьям, многое успел вышутить. Изобразил он в смешном виде и свои дорожные приключения, и как он был тыловой крысой; сообщил и о последних событиях в Новочеркасске, даже о том, как он сопровождал от железнодорожной станции и до областного правления делегацию Донского военно-революционного комитета, охраняя ее от взбесившейся, грозившей расправой белогвардейской толпы (делегация эта во главе с Подтелковым приезжала к Каледину для переговоров).
Все это Пашка представил подробно и даже в лицах, а вот как на все это смотрит он сам, что ему по шерсти и что против шерсти, — об этом ни слова. А когда Федор попробовал спросить у него прямо, какому все же богу он молится, Пашка отделался шуткой:
— Только вот этому, нарисованному, — и, скаля мелкие плотные зубы, указал рукой на икону в углу, — а живые боги — кто их разберет! Один белый, другой красный, третий сер-бур-малиновый… А мне не хочется ни белеть, ни каснеть, ей-бо! Хочу быть — каким я есть: бледным и чуть-чуть с румянцем.
Федор пристально взглянул в его плутовато ухмылявшееся лицо: оно было таким же, каким знал его Федор, но вроде и не совсем таким — огрубевшим, с кровяными прожилками в светлых озорных глазах.
— Ты, Павел, брось это! — строго сказал он, слегка отодвигаясь от него, как бы затем, чтобы лучше рассмотреть его на расстоянии. — Смешки смешками, а дело делом. Ты скажи нам вот что… и, пожалуйста, без завитушек…
Тут щелкнула дверь, вошел все с тем же обиженно-покорным лицом Андрей Иванович, и Пашка, взглянув на раздутые карманы его пиджака, засуетился, начал расставлять табуретки и пригласил гостей за стол.
Старик поставил на подоконник бутылки, заткнутые тряпичными пробками, разделся и, подойдя к шумевшему на столе самовару, стал в струйках пара греть свои синие, в застаревших цыпках руки. Он упорно безмолвствовал все время, не выказывая ни гнева, ни радости. Его язык не развязался и после того, как он опрокинул, и даже не однажды, пузатую рюмку. При этом он поневоле чокался со всеми и под нос бурчал:
























