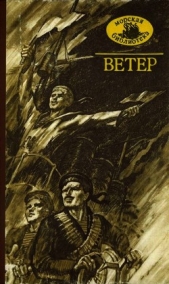Том 2. Черное море. Дым отечества

Том 2. Черное море. Дым отечества читать книгу онлайн
Во второй том собрания сочинений вошли повести «Черное море», «Северная повесть» и роман «Дым Отечества».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Слава богу, — вздохнул Вермелъ, открывая Пахомову дверь зала, где пахло клеем и опилками. — А я, признаться, думал, что вы так скоро не вернетесь. И я бы вас не осудил. — Он потрепал Пахомова по плечу. — Завидую вам. Да, завидую. А теперь давайте работать. Кипяток есть, хлеб, сахар и чай есть, — значит, до вечера я вас не выпущу.
— Отлично, — ответил Пахомов.
Он был рад предстоящей работе.
Ночью в вагоне он думал о Татьяне Андреевне. Все, что с ним случилось, казалось ему таким невероятным, что от мыслей об этом у него начинало больно биться сердце. Тогда он старался думать о чем-нибудь другом, и сердце успокаивалось.
В Нарве он выпил в буфете вина. Поезд проносился мимо мыз, обдавал их паром. Пар оседал в черных садах. Пахомов впервые почувствовал веселую уверенность в себе. Этой уверенности раньше не было.
До самого Ленинграда он напевал, высунувшись из окна. Он пел все, что приходило в голову. «Царит весны таинственная сила с звездами на челе. Ты, неясная! Ты счастье мне сулила на суетной земле». Он даже не помнил поэта, написавшего эти стихи. Но это было не важно.
Пахомов работал до вечера. Краски ложились легко, верно.
Кто-то несколько раз требовательно стучал в двери, но ни Вермель, ни Пахомов не откликались и дверь не открыли. Только в сумерках Вермель отошел от росписи, долго смотрел на нее, потом сел на стремянку, закрыл руками лицо.
— Вы что, Николай Генрихович? — спросил встревоженный Пахомов.
— Ничего, — ответил Вермель, — готова роспись. А где же радость, Миша? Прошмыгнула, как мышь, — и ее уже нет! Вот, действительно, «стою, как поденщик ненужный, плату приявший свою, чуждый работе другой». У остальных есть всё: жена, дети, любимые женщины, есть родные места, есть привычки, есть возможности отдыха. А у меня нет ничего, кроме красок. Ничего! Этим я только и счастлив. Я сумасшедший, Миша. Вот и вы скоро меня бросите. Э-э, батенька, не возражайте. Я это великолепно знаю. Пахомов обнял Вермеля за плечи:
— Не смейте об этом думать, Николай Генрихович. Будем жить вместе.
Вермель вытащил из кармана бархатной куртки платок, отошел к окну и стоял там, спиной к Пахомову, сморкался, смотрел на улицу.
— Миша! — позвал он. — Идите сюда. Пахомов подошел к окну. По широкому проспекту красноармейцы вели на поводу, как водят коней, огромных серебряных рыб. Это были привязанные аэростаты. Закатное солнце освещало аэростаты, красноармейцы же были в тени. Казалось, что по улице сами собой плывут ленивые толстые карпы.
— Сколько их! — сказал Пахомов. — Десятки! Что это значит, Николай Генрихович?
Железный грохот ворвался в проспект с ближайшего перекрестка. Оттуда двигались, покачиваясь, тяжелые танки. Шли они совсем не так, как на парадах, — лица командиров, стоявших в башнях, были сосредоточенны и угрюмы. Стальные гусеницы высекали искры из мостовой.
— Куда они идут? — спросил Вермель.
— Должно быть, к Финскому вокзалу. Что-то случилось, Николай Генрихович.
— Опять вы взялись за свои пророчества, Миша! Откуда вы знаете?
Пахомов не мог объяснить Вермелю, откуда взялась у него эта уверенность. Ее создали десятки мелочей — глухой грохот над городом, торопливые шаги прохожих, непрерывный говор громкоговорителей, который Пахомов никак не мог разобрать.
Пахомов высунулся из окна, вслушался и повернул к Вермелю растерянное лицо.
— Николай Генрихович, — сказал он тихо, — а ведь и вправду случилось.
— Что?
— Война, Николай Генрихович.
— Замолчите! — закричал Вермель. — Что это, наконец, такое! У всех голова забита только войной. Недоставало, чтобы и вы меня изводили военными разговорами.
Вермель снял фартук, застегнул бархатную куртку, начал искать шляпу.
— Если война, значит, и вас возьмут, Миша, — сказал он и посмотрел на Пахомова остановившимися глазами. — Пойдемте! Скорей!
Они вышли, и с первых же шагов Вермель, ничего еще толком не зная, понял, что Пахомов прав, — облик города за несколько часов сразу переменился. Город сделался суровым, настороженным.
Только Нева все так же спокойно несла темную воду на запад.
Тут же, около дверей театра, первый прохожий — рабочий с ниточной мануфактуры — рассказал Вермелю и Пахомову о немецких войсках, перешедших границу, о бомбардировке Киева, Вильно, Таллина, Севастополя.
Пахомов почувствовал холод под сердцем. Слушая рабочего, он засунул руку в карман пиджака, нащупал военный билет и переложил его в другой, свободный, карман. Когда рабочий ушел, удивляясь чудакам, не знавшим до вечера о начавшейся войне, Пахомов сказал Вермелю, что ему нужно идти в военкомат.
— Хорошо, Миша, — согласился Вермель, — но только посадим минуты две здесь, в сквере. Надо немножко успокоиться.
Они сели на скамейку в сквере около Троицкого моста. Лампы в окнах не зажигались. Не горели и уличные фонари. Как серебряные невиданные птицы, подымались над городом аэростаты воздушного заграждения. На стенах белел приказ о введении чрезвычайного военного положения.
Вермель молчал, отвернувшись. Потом он встал, схватил Пахомова за плечи и крепко потряс:
— Конечно, Миша! Теперь нам осталось только драться. И не оглядываться назад. И ни о чем не жалеть. Не жалеть! — крикнул Вермель. — А когда окончится война, мы соберем все, что осталось. Тогда я стану на колени перед первым попавшимся мне старым холстом и буду плакать, как дурак. Но сейчас надо об этом позабыть. Пойдемте, Миша.
Пахомов молчал. Множество мыслей мелькало в сознании — мыслей о войне, об огромных страданиях, ждущих всех впереди. Но страдания эти не пугали. Может быть, потому, что за эти несколько минут Пахомов отрешился от себя. Он уже принадлежал не себе, а всей стране, поднявшейся против смертельной опасности, что хлынула с запада в реве бомбардировщиков, вое снарядов, скрежете танков.
— Мое место там, среди миллионов бойцов, — сказал он Вермелю.
Они расстались около памятника Суворову. Бронзовый полководец пристально смотрел на военное оживление города. И, переходя с низких нот на все более высокие, перекатываясь от предместий к Неве, многоголосым предостерегающим криком уже гремела над Ленинградом первая воздушная тревога.
Глава 3
Вермель вернулся в свою комнату, завесил одеялом окно, зажег свет и выругался. Неужели у него всегда был такой беспорядок? Комната не прибиралась неделями. Раньше Вермель не обращал на это внимания, но сейчас, ожидая взрывов и разрушения, он хотел чистоты, порядка, свежего воздуха. «Недаром, — подумал он, — солдаты надевают перед боем чистую рубаху».
Он прибрал комнату, вытер пыль. Все вещи — раньше он почти не замечал их, а если и замечал, то ругал за ветхость или другие недостатки, — все эти вещи показались ему теперь притихшими и одинокими.
— Как же вы будете жить без меня? — спросил Вермель и прислушался к звуку собственного голоса.
Он еще не знал, что с ним будет завтра. Но у него появилась уверенность, что оставаться здесь он не должен, что надо идти вместе со всей страной. Куда? На запад, навстречу врагу, пожарам, бою, смерти. Время сместилось внезапно. Никогда он не думал, что прошлое может так быстро провалиться в пустоту.
Когда Вермель окончил уборку, было уже светло. Он распахнул окно. За ним зарождалось сыроватое утро. Со взморья долетали удары, похожие на короткий гром.
Вермель зажег газ, поставил на конфорку чайник, сел в кресло и закурил. Он почувствовал облегчение оттого, что все прибрано, уложено, что прохладный воздух вливается в окно и луч солнца играет на протертых стеклах книжного шкафа. Вермель нащупал в кармане ключ от двери. Значит, всё! Значит, можно встать, нахлобучить шляпу, закрыть комнату и уйти пешком по дорогам, смешаться с запыленными бойцами, пить из колодцев, спать под соломенными застрехами, найти свое место среди взволнованной огромной страны.
Эта мысль принесла Вермелю успокоение. Он даже улыбнулся, будто война внесла наконец ясность в его такую сумбурную жизнь.