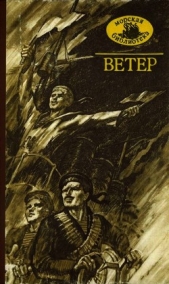Том 2. Черное море. Дым отечества

Том 2. Черное море. Дым отечества читать книгу онлайн
Во второй том собрания сочинений вошли повести «Черное море», «Северная повесть» и роман «Дым Отечества».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…В городе зашли в кофейню. Опять начинался прибой. По асфальту разливались лужи.
Швейцер, размешивая ложечкой сахар в стакане, сказал:
— Я думаю, что послезавтра вы, Миша, сможете начать реставрацию портрета. Сколько это займет времени?
— Дня три, не больше.
— Значит, проживем здесь еще дней шесть. Пахомов вопросительно посмотрел на Татьяну Андреевну. Она сказала, опустив глаза:
— Хорошо.
— Мы вас проводим до Одессы, — сказал Татьяне Андреевне Швейцер. — Нам все равно, как возвращаться в Ленинград — через Одессу или через Москву.
— Хорошо, — повторила Татьяна Андреевна, не поднимая глаз.
Глава 31
Сторожка, куда Пахомов перенес для работы портрет, стояла на краю санаторной усадьбы. Окно выходило прямо в лес.
Пахомов прожил в сторожке три дня.
Если было бы можно, то Пахомов поселился бы в сторожке надолго. Простая беленая комната, сыроватый запах мела, теплый свет за окном — все это казалось ему замечательным. Таким он всегда представлял себе жилище художника.
В первые дни Пахомов медленно снял с портрета все наслоения грязи и кое-где обновил краску. Сегодня с утра он решил открыть наконец под слоем белил пушкинский текст.
Он не начинал работать: ждал Швейцера. Тот что-то не ехал. Пахомову не терпелось — он осторожно протер ватой, смоченной в желтоватом растворе, нижнюю часть бумажного листа, который держал Пушкин. Появились неясные буквы, потом первое слово — «дремлющий».
Пахомов отложил вату. Нужно было большое усилие, чтобы сдержаться и до прихода Швейцера не отмыть весь текст. Руки у Пахомова дрожали. Если бы белила окаменели и их пришлось счищать месяцами, крупинку за крупинкой, Пахомов сделал бы это с радостью.
Он оглянулся, осмотрел неровные стены, огромные костыли в потолочных балках, кожаный старый табурет. Ему не верилось, что эта пустая комната в крымских горах может войти в историю, что о ней могут узнать тысячи людей. Сейчас он здесь один, наедине со стихами, закрытыми слоем краски.
К полудню приехал Швейцер. Он старался быть спокойным, но заметно нервничал, потирал руки.
Увидев первое слово стихов, он побледнел и сказал Пахомову:
— Ну и свинья же вы, Миша! Неужели не могли удержаться?
— Я только попробовал раствор, Семен Львович.
— Попробовал! Ну, бог с вами. Давайте будем смывать.
— Сверху или снизу?
— Лучше в разных местах.
Пахомов запер дверь на ключ и намочил вату. Он сильно протер середину листа. Появилось слово «вечерняя». Он начал протирать дальше, низко наклонившись над холстом. Потом решил протереть сначала руку Пушкина. Под слоем коричневой краски появилась рука с длинными ногтями и сердоликовым перстнем. Пахомов долго рассматривал изгиб пальцев, обернулся к Швейцеру. Швейцер сидел на табурете и смотрел за окно.
— Что же вы? — спросил Пахомов.
— Протрите вверху листа, — сказал, не оборачиваясь, Швейцер. — Там должно быть слово «редеет».
— Откуда вы знаете?
— Протрите, Миша!
Пахомов протер, и действительно, написанное косым почерком слово «редеет» выступило из-под краски.
— Все ясно! — сказал Швейцер. — Я начал подозревать это, как только увидел первое слово — «дремлющий».
— Что ясно?
— Ясно, какие это стихи. И вы их знаете, Миша.
Пахомов молча начал протирать дальше. Он не испытывал разочарования, но ему было жаль Швейцера. Все его труды, поиски, надежды пропали даром.
Швейцер угадал. Появилась строка: «Редеет облаков летучая гряда».
Пахомов протер весь текст до конца. Это оказалась первая строфа стихов, знакомых с детства.
— Вы огорчены? — просил Пахомов Швейцера.
— Ничуть, — ответил Швейцер, подошел к портрету и прочел всю строфу:
— Ничуть, Миша! — повторил Швейцер и начал ходить по комнате из угла в угол. — Я ни о чем не жалею. Стоило потратить так много усилий, чтобы вот здесь вдвоем прочесть еще раз эти слова. Как вы думаете?
— Пожалуй, стоило, — ответил Пахомов.
— Если есть в мире совершенство, то оно заключено и в этих четырех строчках. Мы умрем, падут и возродятся народы, а эти слова будут идти из века в век и изумлять людей. «Твой луч осеребрил увядшие равнины»… Вы слышите, как поет каждая буква? Это точно, и это прозрачно, как воздух. Печаль, спокойствие. Каждый раз, когда читаешь пушкинские стихи сызнова, — это открытие.
— Я теряюсь перед гениальностью, — сказал Пахомов. — Я не знаю, что это такое. Вечная юность? Или что-нибудь другое? Все это брызжет из души каскадом. Человек не подозревает, на что он способен. Должно быть, так.
— Пожалуй, так, — согласился Швейцер. — Мы, очевидно, любим в гениальных людях то, что не смогли совершить сами. Вот и конец моим поискам, Миша.
Швейцер помолчал, потом встрепенулся:
— А теперь — в Ялту. Татьяна Андреевна просила привезти вас поскорей.
Глава 32
Вблизи берегов Одессы вошли в плотный туман. Каждую минуту гневно кричала сирена.
Татьяна Андреевна проснулась и прислушалась — теплоход не двигался. Изредка с медленным гулом проворачивался гребной вал и снова останавливался.
«Туман!» — с радостью подумала Татьяна Андреевна и смутилась тому, что обрадовалась туману. Туман надолго задержит теплоход, а Татьяне Андреевне хотелось, чтобы рейс длился еще несколько дней. Она знала, что ей трудно будет расставаться с Пахомовым и Швейцером.
— Странно, — сказала Татьяна Андреевна и начала одеваться.
Она вышла на палубу. Туман несло мимо теплохода душными волнами. Изредка он редел, и тогда казалось, что огромный теплоход с могучими трубами, мачтами и палубами каким-то чудом зашел в маленькое глубокое озеро с зеленоватой водой. Его нос и корма упирались в белые и высокие берега тумана. На палубе стояли у борта, к чему-то прислушивались Пахомов и Швейцер. Татьяна Андреевна окликнула Швейцера. Тотчас же с капитанского мостика чей-то голос внушительно и спокойно сказал:
— Товарищи пассажиры, соблюдайте полную тишину! Помогите нам услышать береговую сирену.
Татьяна Андреевна сделала изумленные глаза и на цыпочках подошла к Пахомову и Швейцеру.
— Тише! — сказал Швейцер. — Я, кажется, слышу. Татьяна Андреевна вздрагивала от сырости — после теплой каюты на палубе было свежо. Рядом с Пахомовым висело перекинутое через планшир его летнее пальто. Пахомов взял его и накинул на плечи Татьяне Андреевне. Она молча кивнула ему и закуталась в пальто.
— Честное слово, слышу, — сказал Швейцер.
Все прислушались. За кормой что-то глухо прогудело и стихло.
— Ну, так и есть! — сказал обрадованный Швейцер. — Сирена! С вас рубль, Миша. Я услышал первый. Пойду скажу капитану.
Он поднялся по трапу на верхнюю палубу. Татьяна Андреевна и Пахомов остались вдвоем.
— Никогда я не думала, что на море может быть такая тишина! — сказала Татьяна Андреевна. Она стояла рядом с Пахомовым, облокотившись о борт. — Как тепло в вашем пальто! Спасибо!
Яростно прокричала сирена на мостике.
— Вам не холодно, Миша? — спросила Татьяна Андреевна.
— Нет, мне очень хорошо.
— Вы знаете, Миша, я, должно быть, очень жадная. Я все хочу запомнить и все сберечь. Вон видите, как перелилась волна и ушла в туман. Я хочу всегда помнить эту волну. И этот туман. И крик сирены. И потому я очень завидую вам и Николаю Генриховичу.
— Нашли кому завидовать, — шутливо сказал Пахомов.
— Потому что все это — какой-нибудь листик, прилипший во время дождя к окну, — все это модою сохранить только красками. Я вообще завидую художникам.
Вернулся Швейцер. Он потащил Татьяну Андреевну и Пахомова пить чай. В салоне горело электричество, стояли на столиках белые левкои. Татьяна Андреевна дотронулась до них и вспомнила ночь на теплоходе по пути в Ялту, такие же левкои, разговор со Швейцером. Она вспомнила его слова о том, что победят разум и справедливость, и с благодарностью посмотрела на него.