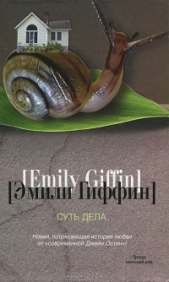«Карьера» Русанова. Суть дела

«Карьера» Русанова. Суть дела читать книгу онлайн
Популярность романа «Карьера» Русанова» (настоящее издание — третье) во многом объясняется неослабевающим интересом читателей в судьбе его главного героя. Непростая дорога привела Русанова к краху, к попытке забыться в алкогольном дурмане, еще сложнее путь его нравственного возрождения. Роман насыщен приметами, передающими общественную атмосферу 50–60-х годов.
Герой новой повести «Суть дела» — инженер, изобретатель, ключевая фигура сегодняшних экономических преобразований. Правда, действие повести происходит в начале 80-х годов, когда «странные производственные отношения» превращали творца, новатора — в обузу, помеху строго регламентированному неспешному движению.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Иван Алексеевич, вы что-нибудь слышали о якутской Золотой бабе? Мои знакомые собираются ее искать. Не слышали? — Оля заглянула в комнату.
— Назад! — одернул ее Липягин. — Вот ведь… А заболеешь? Что мне Владимир Васильевич скажет? — Оля послушно вернулась на место. — Золотую бабу я сам когда-то искал. Но не нашел. Находить не обязательно, Оля, обязательно — искать… Подвинь табуретку к шкафу, там наверху подшивка «Русского следопыта». В одном из номеров как раз есть статья о «якутском феномене», как его называют.
Оля достала журналы.
— Можно с собой взять?
— Конечно… И поставь еще чайку. В буфете, в самом низу, стоит какое-то подозрительное варенье еще с прошлого года. Рискнем?..
Журнал со статьей о Якутской бабе она в тот же день отдала Ремизову, взяв с него слово, что он будет обращаться с ним бережно. Остальные журналы стала неторопливо перелистывать: до чего же любопытно! «Уроки практической хиромантии дает г. Страубе, магистр прикладной окультики». Мамочки! Жили же люди! Взял несколько уроков — пожалуйста, предсказывай будущее. А тут двадцатый век на дворе, спутников в космосе, как автомашин: уже и номера у них четырехзначные, а толком не знаешь, что с тобой завтра будет…
В одном из журналов лежали газета и несколько мелко исписанных листков. Наверное, чья-нибудь прабабка писала. Или прадедушка. Почерк — мелкий, бисерный — был на редкость разборчив: не шариковой ручкой писали, пером, в чернильницу макали. «Заглянем в прошлое, — сказала себе Оля, устраиваясь с ногами в кресле. — Какими заботами жили предки? Читать чужие письма — нехорошо, но это были уже не письма, а архивные документы далекой эпохи, для нее — чуть ли не берестяные грамоты.
«Ты во многом права,— так без обращения начиналось первое письмо. — Наверное, ты права во всем. Это я говорю тебе по зрелом размышлении после многих лет, успев подумать, пожив и повидав многое.
Твое везение, твое, могу надеяться, счастье, что ты не со мной… Я сижу в бараке, рядом жуют колбасу мои товарищи, и если я вдруг скажу, что любовь может сломать человека, они даже не улыбнутся — меня давно считают придурком. Да и сам я теперь в это не верю. Уже не верю… Разве что хрустнул, а сломался потом, просто потому, что жилы во мне не было, станового хребта. Сейчас мне все равно. Хотя, если я пишу тебе об этом, не так уж, наверное, все равно… Вон за спиной сколько, а я до сих пор вижу нашу последнюю встречу, наше последнее расставание: вагон, тебя в окне — ты прижалась к стеклу, расплющив нос, поезд тронулся, ты стала открывать раму, хотела что-то сказать, я видел — ты хотела сказать что-то важное, но окно не поддавалось, я шел рядом, потом побежал, поезд набирал скорость, а ты, может быть, все еще пыталась открыть окно. Мне показалось — ты хотела сказать совсем не то, о чем я потом прочитал в твоем письме… Ведь не о том, а?..
Идет дождь со снегом. Сейчас я буду чинить валенки, они совсем прохудились, а скоро холода…»
Второе письмо начиналось совсем странно:
«Меня всегда раздражала любовь Ромео и Джульетты. Ах! Да не любовь у них вовсе была, у них просто половые гормоны взбунтовались. «Пора пришла — она влюбилась» — это из той же оперы. Какая пора? Полового созревания? Для этого не обязательно влюбляться, можно и так, примеров тому великое множество».
— Дурак какой-то, — вслух сказала Оля. — Ромео ему не угодил!
Она перевернула страницу и стала читать дальше:
«Теперь, когда я знаю, что никогда не отправлю тебе эти письма, я могу говорить обо всем. Я понял, что любовь уникальна. Я люблю тебя до сих пор. Может быть даже, только теперь полюбил. Никакой боли. Спокойная радость, что это было и есть. Могло ли такое случиться со мной в семнадцать лет? Что если любовь — вовсе не чувство, а мировоззрение? Мироощущение? Нечто, в обиходе не обязательное. Человек не может жить без пищи, без воздуха; без любви — сколько угодно… Ромео и Джульетта — я, наверное, сгоряча обругал этих детей: любовь не зависит от возраста. Я запутался…»
Она оторвалась от письма. Кто они, эти люди, в чью судьбу она нечаянно заглянула? Любовь. Слово такое простое, его за день повторяют миллионы людей, так же, как миллионы людей привычно говорят о смерти, не думая, что за словом… Она вспомнила, как года два назад спросила отца, почему он не женится: многие женятся, особенно если у них дети, и отец — тогда он еще не часто говорил с ней всерьез — неожиданно очень серьезно сказал: «Такого уже не будет, а не такого мне не надо». Любовь — уникальна? А как же назвать все остальное, что вокруг?
«Я запутался, — Оля снова бежала глазами по строчкам. — Ладно. Жизнь впереди долгая; может, если сумею нащупать дно, я хорошо проживу, что отмерено, распутаю, без чего нельзя, а без чего можно — пусть, вон сколько людей вообще не знают, что живут абы как… Очень хочу, чтобы ты была права, чтобы твоя правда помогла тебе жить…»
Что-то таинственное, необычное угадывалось в этих письмах, что-то совсем из другой жизни. Торопливый, бегущий почерк, буквы упругие, твердые… Она еще раз прочитала несколько строк, и вдруг увидела, что почерк ей знаком, и бумага совсем не старая, и чернила не из чернильницы… Раскрыла подаренную Липягиным книгу: «Оле в день рождения…» Иван Алексеевич? Но этого просто не может быть. Почему не может, она не знала — не может, и все! То, что она читала, было из давней жизни, из романа: этого не мог писать добрый пожилой человек в толстой вязаной фуфайке, он был сегодняшний, совсем обыкновенный, делал все понятно, сидел у огня, ворошил догорающие угли… Вспомнила, как он смотрел на огонь. Как странно смотрел на плещущие синие огоньки. И поняла — это он… Молодой, сильный, здоровый, он писал женщине, которая… Бросила его? Не любила? Или письма написаны после того, как с ним случилось несчастье, и он не хотел портить ей жизнь? Это уже слишком, остановила она себя. Это и вправду роман. Что же тогда?.. Занесенный снегом барак где-то в тайге, фонарь «летучая мышь», бегающие по стенам тени, он сидит за столом… Нет, он сидит на грубо сколоченных нарах,— почему-то так ей показалось правдоподобней, — чинит валенки… Геологическая партия? Наверное. Он же рассказывал. Геологи, как моряки, надолго уходят из дома, их ждут жены… А эта — не дождалась? Предала его. Сперва она, потом его продали другие. Те самые, из-за которых он стал калекой. — Оля поежилась. — Где это было? Если бы знать, она бы… — И тут ее взгляд упал на газету, лежавшую вместе с письмами. Она развернула ее и увидела статью, о которой когда-то рассказывал Чижик. Подпись: «В. Можаев». Правильно. Он писал о Липягине, почти с умилением приводил его слова: «Да что об этом? Уехали и уехали. Может, обстоятельства так сложились. Пусть живут». А чтобы поймать этих прохвостов и показать всенародно — не до того было, много других дел. Ведь это — так… Неподсудно. Можно просто упомянуть. Машинист и кочегар тоже смылись. Свидетелей нет. Чего они боятся? Это же не люди. Это нелюди какие-то! Ей вспомнился тот вечер, когда, всхлипывая, она прижалась к Ивану Алексеевичу, и перепугалась, что сейчас опять разревется… Они пишут в школе сочинения — какие у нас добрые, отзывчивые люди, чуть какая беда — все на помощь бегут, а тут — хуже зверей… Этот Можаев… Ладно, ему некогда. А ей — есть когда. Теперь она знает, где это было. Станция Слюдянка. Не все же там сгинули, кто-то остался…
Надо было сразу что-то делать: просто так сидеть и думать об этом она не могла. Она пошла к Чижику. Тот выслушал ее и сказал:
— Ничего не получится. Да и не нужно это Ивану Алексеевичу. Понимаешь? Не нужно. Он не злопамятный.
— Зато я злопамятная! — Оле захотелось трахнуть его по конопатой физиономии. — Дурак ты. Чижик! Если хочешь знать, Ивана Алексеевича это уже не касается. Это всех нас касается. Каждого!. Можно в меня, например, пальцем ткнуть и сказать: «Вот она, та самая стерва!» Все мы соучастники, пока за руки не схватим… Я сейчас ругаться буду. Валька, ты рот разинешь! Скажите на милость — Иван Алексеевич их простил. Я не прощаю! И тебе не позволю!