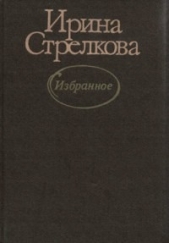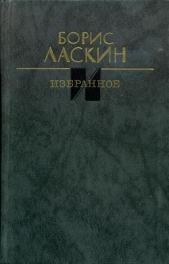Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— На, получай, голодранец!
Он взял, не сводя с нее глаз. Она все смеялась, зубы блестели.
Добрый, с добрым висячим хоботом, Балабондя припомнился мне — как он держал ее за руку, а потом сказал с гордостью: «Красивая, правда?»
«Нет, куда там, — решил я мысленно, — куда ему тягаться с этим рыжим, кудрявым. Года не те».
Я посидел немного на лесенке палубы — так в этом коше назывался вагончик для жилья, и вечерний синий участок еще стоял перед глазами, когда я шел между нарами, ища свое место…
Была полночь, когда я проснулся.
Три человека сидели за столом, и карбидный фонарь неравномерно делил между ними свой холодный свет. Я видел поросшую рыжим пухом щеку учетчика, толстая тень Балабонди вдруг вставала над хаосом палубных нар, а зав боком сидел ко мне, и у него были отчетливые сутулые плечи.
Они сидели за столом и молчали. Слышно было лишь ночное дыхание спавших на нарах людей, да мухи жужжали, бились в окна, кружились вокруг фонаря.
Молчание прервал учетчик. Тряхнув кудрями, он заговорил и сперва очень вежливо, а потом выругался, и пошло, и пошло. Нефтесиндикат в его устах был живым существом, у которого была мать, и вот эта мать…
Зав тер ладонью лоб. Несколько раз он снял и снова надел кепку. Он волновался.
— Сделай что-нибудь, — сказал он Балабонде. Голос был неровный, глуховатый.
— Да что ж тут сделаешь? Что мне их, своим дерьмом смазывать, что ли? — проворчал Балабондя и грозно раздул хобот.
— Зачем дерьмом? — несмело сказал зав.
— Так чем же?
— Нигролом.
Балабондя плюнул.
— Говорю тебе, нигролом нельзя.
Они снова замолчали. И так долго молчали они на этот раз, что я вдруг понял, что все это было для них личным делом.
Что Нефтесиндикат кровно обидел их, прислав вместо моторного масла нигрол.
Что они сидели за столом, как у постели больного.
— С нигролом нельзя работать, — еще раз повторил Балабондя. Он поймал муху и посадил на ладонь. Она улетела.
И снова они замолчали.
Потом зав встал. Тень козырька упала на худенькое лицо: он был теперь востроносый, твердый. Пиджак топорщился на нем.
Он сказал глухо:
— С четырех работайте.
И ушел.
За ним ушел и учетчик, и Балабондя остался один и долго сидел, следя с бессмысленным вниманием за кружением мух вокруг лампы. Он все ловил их и сажал на ладонь. Они улетали.
— Ведь он же агроном, он разве понимает? — сказал он мне и подсел на нары. — Цилиндры от нигрола порошком покрываются. Машина от нигрола болеть начинает. Ну, да что ж будем работать!
Он махнул рукой, полез на нары. Долго ворочался он там, должно быть, не мог заснуть.
И мне не спалось. Я накинул пальто и вышел.
Уже вернулась вторая смена, горели здесь и там рыжие угольки папирос. Свежо было и темно, спал на крыльце конторы знакомый рулевой, и лампа висела над его головой, овальная и желтая, как дыня.
Я присел на скамеечку в стороне от палаток, подле мастерской, сколоченной из тракторной тары.
Мне почудился шум платья, тихий разговор, смех.
— Да поди ты, чего пристал? — шепнул женский голос, тот самый, что пел сегодня «Не плачь, подруженька».
— Ну, Ариш, да пойдем, — громким шепотом отвечал учетчик.
Они сидели в двух шагах от меня, за углом, подле самой двери.
— Да пусти же! Посмотри-ка лучше, который час. Наверное, скоро в поле!
Они притихли, потом послышался шорох, борьба.
— Да что ты!
Она вырвалась, платье метнулось за углом, исчезло.
Дверь захлопнулась. За тонкой дощатой стеной, совсем близко от меня, я услышал, как дышала женщина — свободно и сильно…
Когда я вернулся, все на том же месте стоял карбидный фонарь, храп шел по палубе, задумчивый, душный. Было жарко, неподвижным крестом чернел сломанный вентилятор. Балабондя ворочался на верхней наре; она была коротка для него, и огромная босая нога торчала в воздухе над теми, кто открывал дверь.
Газета валялась на столе, по ней ползали мухи. Я взял ее и лег, не раздеваясь.
Это была трогательная газета, без знаков препинания, без кавычек; сердито-добродушная интонация редактора-украинца мелькала в каждой статье.
Я прочел письмо поваренка: «Учитывая беспокойство о будущей своей жизни, я подал заявление о принятии меня в бронь подростков». И другое письмо, в котором доказывалось, что кухарка восьмой бригады — вредитель, и заметку, вновь вернувшую меня к трактористке Лапотниковой, но не к той, что я видел сейчас, а к утренней, запыленной, сонной.
«В особо трудные моменты, — писалось в заметке, — когда поблизости не было питьевой воды, рулевые, не желая бросать работу, пользовались водой, приготовленной для заправки тракторов и значительно разбавленной керосином».
«Так вот что это было! — подумал я. — Вода для заправки тракторов, вот чем она меня угостила!»
Блохи одолели меня, я поймал одну и долго, мстительно катал ее в пальцах. Потом вернулся к газете.
Радостный рев вдруг грянул надо мной. Это Балабондя сидел на нарах и ревел, упираясь головой в потолок. Ноги метнулись в воздухе, он спрыгнул вниз и встал передо мной веселый, с трубящим хоботом и смеющимися ушами.
— Черт побери, — сказал он и так взял меня за плечо, что я невольно вскрикнул от боли. — О, черт побери, ведь я же забыл про автол! Банка с автолом стоит у меня в мастерской, я смешаю эту сволочь с автолом!
Он ринулся в двери, скатился с лесенки, побежал. Накинув пиджак, я вылетел за ним, — уже в пяти-шести шагах от мастерской мелькали его толстые, неуклюжие плечи. Но все же я догнал его в ту минуту, когда он поднял руку, чтобы распахнуть дверь.
— Стойте, — сказал я ему и повис на этой руке, как на штанге, — что вы хотите делать? Не ходите туда. Лучше я пойду. (Я сам не знал, что говорил.) Где она стоит, эта банка? Я принесу ее.
Он удивленно посмотрел на меня. Потом отнял руку и шагнул через порог.
Через несколько минут он вышел из мастерской с четырехугольной банкой в руках. Все прямо шел он, крепко обняв банку, и у него было строгое лицо.
Я окликнул его вполголоса. Он ничего не ответил и все шел и шел. И уже кончились палатки, началась степь, остались за спиной желтые огни участка, началась темнота. А он все шел вперед — шагами ровными, уверенными и слепыми…
А потом он бросил банку и остановился, опустив голову, прикрыв лицо руками.
— Чертова мать, — пробормотал он. — А я-то думал…
Такой же, как всегда, добродушный и важный, он ходил полчаса спустя между тяжелых ночных машин. Нигрол был уже смешан с автолом, и смазчики, сонные и черные как сажа, уже стучали лейками, лили масло.
А самый маленький из них, похожий на гнома в своей широкополой войлочной шляпе, раздувал горн и казался еще черней над красным светящимся железом…
1929
Из книги «Мы стали другими»
Самое необходимое
До войны папа работал продавцом в магазине, и Марише нравилось покупать у него что-нибудь, как будто она чужая.
— Отвесьте мне, пожалуйста, ливерной триста грамм. Нет, от этой. Кажется, пожирнее.
Он смеялся и был еще такой молодой, интересный, с блестящими черными нарукавниками, в белой шапочке и в белой нарядной куртке. В магазине было светло, красивые колбасы в серебряной бумаге, которые никто не покупал, висели вдоль полок, и стоял красивый холодильный шкаф с никелированными ручками, прилавки мраморные под гнутым стеклом, и все вокруг блестело и сверкало.
Прежняя жизнь, до войны, представлялась Марише в виде этого магазина. Теперь он был заколочен, высокие щиты стояли перед окнами, и Мариша старалась поскорее пройти мимо, потому что она не хотела вспоминать прежнюю жизнь. «Еще навспоминаемся», — говорила мама. И она была совершенно права.
Папа служил теперь в эвакогоспитале, на вещевом складе. Он отрастил усы и стал худой и длинный. Каждый раз он приносил что-нибудь домой из своего обеда, и мама сердилась, что он сам ничего не ест, а все оставляет для них. Он молчал, а потом подзывал Маришу, спрашивал, как прошел день, и все гладил ее по голове и смотрел с беспокойством. Он все думал теперь, все думал. «Ты не думай, Лев», — однажды сказала ему мама. И она была совершенно права.