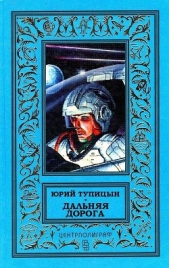Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе.
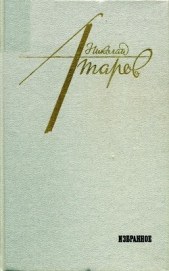
Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. читать книгу онлайн
Однотомник избранных произведений известного советского писателя Николая Сергеевича Атарова (1907—1978) представлен лучшими произведениями, написанными им за долгие годы литературной деятельности, — повестями «А я люблю лошадь» и «Повесть о первой любви», рассказами «Начальник малых рек», «Араукария», «Жар-птица», «Погремушка». В книгу включен также цикл рассказов о войне («Неоконченная симфония») и впервые публикуемое автобиографическое эссе «Когда не пишется».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— В быстрой воде, — добавил Саша.
Молодые люди помолчали. Анна Никодимовна сидела не шелохнувшись.
— В детстве она мне больше нравилась.
— Она была меньше?
— Точно такая же. Видишь, в какой кадушечке ее держат. На каждое человеческое поколение она только вот одну веточку прибавляет.
— Не много, — сказал Саша.
Анна Никодимовна вжалась в тахту и слушала. Леся предложила пройтись по городу, она покажет школу на горе, где она училась. Они быстро прошли мимо Анны Никодимовны, не заметив ее.
— Мамочка, мы скоро придем! — крикнула Леся в дверях.
Анна Никодимовна слышала, как щелкнула за ними английским замком парадная дверь. Встав с тахты, Анна Никодимовна стала припоминать, что ей надо сделать по хозяйству. Ах да — камсу прокоптить. Леся любила копченую камсу. Сад горел на закате красным огнем, как все сады на юге в декабре, но Анна Никодимовна ничего не замечала.
Она повторяла про себя все, что услышала, сидя в уголке на тахте. Что-то из сказанного детьми ей показалось давно знакомым. С ниткой недоконченной, но уже потемневшей камсы Анна Никодимовна вошла на веранду, приблизилась к елочке, стоящей на жардиньерке. Араукария тянула во все стороны коротенькие извилистые веточки. И вдруг то, что смутно казалось и раньше Анне Никодимовне, но было сложным, не по уму, стало простым и понятным.
Ей стало стыдно перед детьми. Было стыдно. И стыдно было даже не оттого, что жизнь прошла бессмысленно и пусто, не оттого, что она могла что-нибудь сделать и ничего не сделала, а оттого, что все это время в углу стояло на жардиньерке мохнатое растеньице, будто повторяя, будто передразнивая чужую жизнь.
— Вот гадина, — шепнула Анна Никодимовна, сама стыдясь своего приступа ненависти, и все-таки, не в силах сдержать себя, схватила влажной рукой растение за извилистую мохнатую веточку.
В калитке щелкнул замок. Анна Никодимовна разжала руку. Дробышев вернулся с прогулки. Он вошел на веранду, трость поставил в угол.
— Молодой человек пороху не выдумает… А? Здоровяк, ни на что не жалуется.
Анна Никодимовна молчала, стоя у араукарии, и Дробышева смутило ее молчание.
— Я думал, Аннушка, что бы подарить детям, — сказал он, — наш век кончился, подарим им…
— Нет… ни за что… ни за что… — раздельно выговаривая каждое слово, сказала Анна Никодимовна, быстро вышла на крыльцо, стала коптить камсу над самоваром.
1939
Жар-птица
— Лесной Волчанкой не запугают! Разве мы добиваемся незаконного? — кричал Роман Шестаков. — Ты не годишься в Лесную Волчанку: мне еще два года учиться, пять лет лечиться!
Не слыша своего ожесточенного голоса в шуме вузовского коридора, он рвался из Аниных рук, а Аня Орлова, трепещущая, заплаканная, ничего не видящая сквозь запотевшие стекла очков, едва поспевала за ним. Минуту назад она была среди своих однокурсников, толпившихся в директорской приемной, и для нее самое главное было, куда ее направят на работу; но сейчас, когда так разбушевался Роман, это потеряло всякое значение, важнее всего — унять его, образумить, заставить улыбнуться. На лестничной площадке она наконец остановила его.
— Как ты ведешь себя, Роман?! Что ты тут распоряжаешься?
Рослый, в черном суконном полушубке, он тяжело дышал. Лицо небритое, плоское, несчастное. В одном глазу — в его зеленой радужной оболочке — знакомая милая отметинка, черная крапинка, и от этого в минуту гнева выражение лица кошачье, вся дикость характера таращится в упор из этого крапленого глаза. Аня с мольбой прикоснулась ладонью к его щеке.
— Побрился бы, — сказала сквозь слезы. Попробовала пошутить: — Девушки этого не прощают.
Но он не склонен был к шуткам.
— Так ты откажешься? Отвечай! — сказал он.
— Но ведь все едут, Ромаш.
— Все?
— Все, — тихо повторила Аня.
Говоря так, она понимала, что ничего не значит, что она говорит; не ей решать, потому что она любит, и, значит, будет, как захочет Ромаш, как ему надо.
— Тогда всё! — яростно крикнул Шестаков.
И, не слушая Аню, которая кричала ему вслед: «Погоди! Погоди же!» — не владея собой, встряхнув кулаками, будто оттолкнувшись палками на лыжном спуске, он сбежал с лестницы и мимо швейцара метнулся в дверь.
Третий день в технологическом институте Москвы шло распределение молодых специалистов, и, как всегда, это переломное в жизни людей событие сопровождалось множеством душевных переживаний; у высоких закрытых дверей, за которыми шло заседание комиссии, торопливо завязывались или навсегда развязывались многие жизненные узлы и узелки.
Все утро аспирант Роман Шестаков простоял у окна в коридоре, в чужом институте, глядя на мосты за окном, как бы приподнятые густым туманом, на цепочки не погашенных днем фонарей. Из директорской приемной сюда доносились голоса выпускников. Их было около тридцати, и среди них Аня Орлова. Он не заговаривал с ней. Она его сторонилась. Стоя в полушубке у окна, не замечая обращенных на него взглядов, он весь ушел в созерцание непогашенных фонарей на мостах. Какая бывает припухшая желтизна вокруг фонарей в такие туманные дни, в последние дни марта. В приемной не затихали голоса — обсуждались плюсы и минусы Калининграда, Копейска, Губахи. Среди выпускников было много коренных москвичей вроде Ани; им труден выбор, трудно решиться покинуть родителей, квартиру, и особенно тревожила, пугала всех какая-то Лесная Волчанка — отдаленнейший таежный поселок в Восточной Сибири, куда на новый завод должны были направить пятерых.
Несколько раз Шестаков выходил на лестницу курить, но торопился назад, боясь пропустить минуту, когда наконец Аня Орлова войдет в кабинет и там какие-то посторонние люди решат ее и его судьбу. Он набрался выдержки и готов был ждать до конца. И вот, как всегда, сорвался. Это произошло, когда незнакомая студентка с пылающими щеками выскочила из кабинета, а за нею вышел директор. Он был раздражен, — наверно, ее нежеланием ехать по назначению.
— Государство учило вас. За добро добром платят. И почему все едут, а вы одна капризничаете? — говорил он, глядя на вздрагивающие плечи студентки.
В эту минуту Роман Шестаков сунулся в приемную. Аня не видела его, она стояла в толпе. Вдруг она обернулась, будто кто толкнул ее. А может быть, в самом деле кто-то показал ей на дверь.
— Лесной Волчанкой не запугаете! — крикнул Шестаков директору.
— А кто этот молодой человек? Посторонний? И почему он в верхней одежде? — спросил директор.
Не давая Роману отвечать, Аня увлекла его из приемной. Он, ругаясь, позволил себя вывести.
Когда входная дверь захлопнулась за Шестаковым, Аня Орлова медленно вернулась в конец коридора, подошла к окну, где Роман терпеливо простоял все утро. Отчаянная выходка Романа потрясла Аню, ей было стыдно вернуться в приемную. Вдруг показалось, что она увидела его в окно: кто-то бешеной походкой пересек всю ширину моста и растворился в тумане. «Милый! Вот и меня понесло… Захоти только — шла бы за тобой, в спину бы глядела и была счастлива».
Так сильно задумалась она, так повело ее за ним, что однокурсник Нефедов должен был тронуть ее за локоть, чтобы она его заметила.
— Что, опять сажа в трубе загорелась?
Аня кивнула головой.
Нефедов все знал: и приступы бешенства Романа Шестакова, и всю неладную историю Аниных отношений с этим смутьяном из чужого института, третий год пребывавшим в аспирантуре, незадачливым поэтом, отчаянным слаломистом.
— Не хочет, чтобы ты уезжала?
— С ним что-то странное происходит. Не знаю, чего он хочет. А его мать меня считает причиной всех зол. Письма пишет ему, обзывает меня жар-птицей.
— Жар-птица, — выдавил из себя Нефедов, побагровев, изменившись в лице от обиды за Аню.
— Похожа?
Сквозь очки она в упор смотрела на товарища, ожидая ответа. Тоненькая, гибкая, в вязаном синем свитере с белыми оленями на груди. За очками ясные, синие глаза. Никакая не жар-птица. Голубая жилочка у переносицы стала сегодня еще голубее. И трогательно шевелится от волнения кончик тоненького, прозрачного носа.