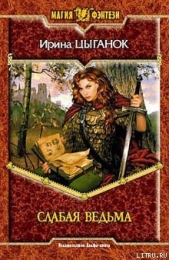Эта сильная слабая женщина
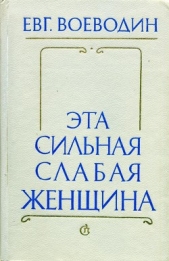
Эта сильная слабая женщина читать книгу онлайн
Имя рано ушедшего из жизни Евгения Воеводина (1928—1981) хорошо известно читателям. Он автор многих произведений о наших современниках, людях разных возрастов и профессий. Немало работ писателя получило вторую жизнь на телевидении и в кино.
Героиня заглавной повести «Эта сильная слабая женщина» инженер-металловед, работает в Институте физики металлов Академии наук. Как в повести, так и в рассказах, и в очерках автор ставит нравственные проблемы в тесной связи с проблемами производственными, которые определяют отношение героев к своему гражданскому долгу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слушал — и музыка, и слова песни казались мне тем чудом, тем волшебством — или колдовством? — которые заставляют тебя замереть, задержать дыхание, чтобы не упустить самой малой малости, ни одной ноты, чтобы запомнить все и сразу, как внезапно открывшееся видение.
В нас, опаленных войной, война еще жила тогда, она снилась даже детям, она была еще незатянувшейся раной и живой болью. И вдруг — песня, удивительная по своей прозрачности, как белая ночь над мирно разведенными мостами, и все, все в ней: и легкий плеск невской волны у гранитных парапетов, и незатухающая, в полнеба, заря, и влюбленная парочка, замершая на сходнях к реке, и запах старых лип, и пленительное, насквозь пронизывающее тебя ощущение мира, добытого такой дорогой ценой. Все в ней: грусть и радость, воспоминание и уверенность в будущем, нежность и твердость — все таинственным образом проникло друг в друга, переплелось, сплавилось, вошло в душу и осталось в ней навсегда.
Помнится, свой очерк я начал с этой репетиции и этой песни. Один ответственный товарищ в редакции читал, морщился, потом вычеркнул все начало.
— Это же Соловьев-Седой! — сказал я.
— Песня еще не известна, и неизвестно, как она будет принята, — ответил этот товарищ тоном, не терпящим возражений.
Что ж, песня живет до сих пор, и, слыша ее, я каждый раз вспоминаю открывшееся мне чудо пронзительного ощущения мира. И, конечно, давно не сержусь на того очень ответственного товарища. Кто его знает, может, он ни черта не понимал в песнях, или недоспал в тот день, или у него болел зуб?..
Потом я много ездил — и по нашей стране, и по другим странам, — и всегда, возвращаясь домой, часами бродил по городу, вглядываясь в него, здороваясь с ним, любуясь им, и невольно замедлял шаг в распевный такт песни: «В целом мире нет, нет красивее Ленинграда моего…»
Его песни пела вся страна, потом весь мир.
Во время Великой Отечественной войны песню «Споемте, друзья», изменяя слова, переиначивая их на свой лад, но бережно сохраняя мелодию, пели десантники, партизаны, летчики… Не любивший много рассказывать о себе, Василий Павлович нет-нет да показывал гостям свою фотографию, где он — с орденом Красной Звезды, орденом, которым награждались лишь за боевые дела.
Никакого секрета в такой поистине народной любви к его музыке — а через нее и к личности композитора — нет. Василий Павлович, обладавший нежной душой, щедро отдавал эту нежность другим — своей работой. Музыка была продолжением душевных качеств, продолжением личности, — а это всегда откликается взаимностью. Я не говорю уже о его огромном таланте, — не о том, который «от бога», нет, любой талант это прежде всего труд, — а Василий Павлович мог работать помногу, и то мастерство, которым он обладал, пришло к нему с годами труда, а не по «вдохновению свыше».
…Там, за далью лет, видится мальчик, сын петербургского дворника, жилец подвала, лишенный многих детских радостей, и балалайка, выплаканная у отца, была первым прикосновением ребенка к особому миру з в у к а, к тому непонятному еще, неосознанному явлению, в котором таились и пленительная красота, и трепетность творчества. Он не был вундеркиндом, из тех, кого мамы и бабушки выпускают в бархатных штанишках к гостям. Первая, извлеченная на свет, изумительная как откровение, как открытие, мелодия была его первой р а б о т о й, и надо было обладать сердцем однолюба, чтобы сразу и безоглядно отдать его музыке.
Таперское пианино в кинематографе «Слон», на котором во время сеансов «великого немого» дама в буклях привычно наяривала «Молитву девы» или «Оборванные струны», тянуло его к себе, как матроса земля обетованная, и ради того, чтобы дотронуться до клавиш, мальчик соглашался на все: подметать в зале пол, выносить мусор, помогать киномеханику. Я часто думал о мальчике Соловьеве, бывая дома у Василия Павловича и разглядывая большую фотографию, на которой двое: он и Ван Клиберн играют в четыре руки… Какие разные судьбы! Как бы я ни понимал, что Клиберн тоже прошел через огромный труд, прежде чем стать Клиберном, но все-таки он жил и рос в ином мире и не только духовного достатка: ему было незнакомо подвижничество.
Возможно, люди старшего поколения еще помнят, как из черных «тарелок» — репродукторов по утрам раздавалась бодрая музыка первых уроков гимнастики. Но мало кто знает, что за роялем, к которому был подвинут микрофон, сидел юноша, а то, что он играл, рождалось тут же, во время урока! Никакой записи на пленку тогда не было, и не было нот перед музыкантом — чистая импровизация! Да, к слову сказать, в ту пору Василий Павлович… просто не знал нот! Все со слуха, все откуда-то изнутри, из себя, из своей наполненной рвущимися наружу звуками души. Никто из тех, кто не испытал этого чувства, не может сказать — что же это такое?! Я думаю, скорее всего это восторг перед самой жизнью, а уж потом потребность выразить этот восторг в мелодии.
Но это еще и труд, та самая «сладкая каторга», без которой не было бы многих и многих десятков его песен, похожих на волны, выплеснувшиеся из глубин доброго к людям сердца…
Василий Павлович жаловался, что его всегда подводили драматурги, поэтому судьба его сценических произведений оказывалась менее удачливой. Да, так оно и было — рядом с ним не оказывалось литераторов, которые могли бы равняться с ним талантом.
Не стал исключением и я.
После той прогулки по комаровской улице я засел за либретто оперетты, скорей из острого желания поработать с Василием Павловичем, желания, не лишенного тщеславия, и еще из непонятного мне теперь ухарства, потому что автор нескольких прозаических книг вовсе не обязательно должен уметь написать хоть более или менее сносную пьесу!
У меня не получилось ничего. Совсем ничего! Из той истории, услышанной много лет назад в Одессе, я не мог выжать хотя бы подобие пьесы. Образы выходили ходульными, сюжет расплывался, как кусок масла на горячей сковородке, как медуза, выброшенная на берег, диалоги получались скучнейшими, несмотря на все потуги автора острить как можно больше. Василий Павлович отважно кидался на помощь — заходил сам или звонил по телефону, — потом в работу включился прекрасный поэт-песенник С. Б. Фогельсон, оказавшийся, впрочем, таким же хилым драматургом, как и я.
Правда, оперетта имела хорошее название — «Ваш доброжелатель». Строилась она на анонимке, присланной жене молодого человека, спасшего девушку. Каноны оперетты были соблюдены железно: безмятежное, лирическое начало, полная идиллия, любовь, потом ссора, разрыв, казалось бы, навсегда, и — «хэппи энд», счастливый конец с песнями и плясками. А оперетты, несмотря на каноны, — не было! Н. П. Акимов, которому кто-то из моих друзей рассказал ее сюжет, грустно произнес:
— Анонимщик? По-моему, это не для комедии. При слове «анонимщик» мне, например, хочется снять телефонную трубку и позвонить прокурору.
Чувствуя, что у меня ничего не выходит, Василий Павлович начал переписывать целые сцены сам. У меня сохранились черновики, на которые сегодня я гляжу со стыдом и тоской.
Как-то Василий Павлович, захворав, лег в больницу, его поместили в свободную процедурную, чтобы никто не мешал работать. Я навещал его чуть ли не каждый день. Однажды сестра Василия Павловича — Надежда Павловна застала нас как раз в тот момент, когда Василий Павлович безжалостно кромсал мою рукопись.
— Вот когда ты сам нарисуешь декорации к оперетте, — сказала она брату, — твоя работа будет закончена.
Это была не просто шутка, а шутка-упрек. Должно быть, у меня в это время была такая физиономия, что Надежда Павловна просто пожалела меня, хотя в глубине души я и сам понимал — нет, все «глухо», ничего не получится, только зря тратим силы…
А музыка уже была написана — и какая музыка!
В Москву, на читку в Министерстве культуры С. Фогельсон и я (Василий Павлович уехал раньше) отправились, конечно, с робкой надеждой: если нас что-то и «вытянет», то только музыка Василия Павловича. Впрочем, берусь утверждать, что песни, написанные Фогельсоном, были написаны талантливо!