Повести писателей Латвии
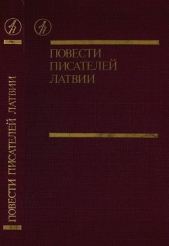
Повести писателей Латвии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А основательно глотнуть было бы совсем не вредно, потому что во всем происшедшем без поллитра никак не разобраться. Выпить!
— Я бы тоже выпила воды, — прозвучал рядом голос Дзидры, и я вздрогнул.
Неужели я до того углубился в свои воспоминания, что даже стал разговаривать с умным человеком — в смысле с самим собой? Не к добру это.
Я положил руку Дзидре на плечо, попробовал улыбнуться и пробормотал:
— Извини!
— За что?
Она спросила очень спокойно, без малейшей нотки удивления в голосе.
— Да за все. Мы идем вместе, а я тебя не развлекаю, знай волоку свои мысли, как прохудившийся мешок, стал даже вслух разговаривать.
— А что тут извиняться? Твое молчание мне по душе, так что можешь и дальше не говорить. Помолчим! Молча мы так хорошо понимаем друг друга.
То ли Дзидра была хорошей актрисой, а может быть, и на самом деле говорила серьезно, но в ее голосе я не уловил ни малейшего признака насмешки. И привлек ее к себе.
— Как госпожа прикажет!
Отпустил, и мы неторопливо поплелись дальше. Дзидра по-прежнему держалась рядом.
В Дижкаулях нас встретили градом двусмысленных острот, но были они, в общем, на уровне начальной школы и мне даже кожу не оцарапали. Да и на лице Дзидры была написана такая скука, что острякам быстро надоело стараться, и они оставили нас в покое.
Я хлебал невкусный молочный суп с крупой, заедал его очень вкусным подовым хлебом и вспоминал любимое кушанье моего детства. Уже начавший плесневеть черный хлеб, нарезанный кусочками, заливают кипящим молоком. Если есть, добавляют ложку меда, сиропа или, на худой конец, патоки. Если нет, обходятся и так.
С детства у меня осталась привычка крошить черный хлеб в молочный суп. Но такое я позволял себе только у друзей и знакомых. А здесь слишком много чужих. Кто-нибудь еще станет кривить рожу: что это я, мол, в людской тарелке готовлю свиное крошево, не поставить ли мне в следующий раз на стол корыто? Со мной уже случалось такое.
Так что я ел безвкусную похлебку, сильно напоминавшую ту, что во времена фрицев называли «Голубым Дунаем»; варили ее только самые скупые хозяйки. В Дижкаулях раньше такою не угощали.
Я бы не сказал ни слова, но одна из наших поварих — я все еще никак не мог запомнить имена своих однокурсниц — не утерпела и спросила меня:
— Ну как, вкусно?
— Ты меня спрашиваешь? — ответил я словами Кенциса из «Времен землемеров» [1].
— Кого же еще?
— Сойдет. Вот только…
— Ну, что «только»?
— В прежние времена хозяйки сдабривали такой суп растопленным салом.
Все недоуменно зашумели. На меня смотрели так, словно я неудачно сострил. Первой отозвалась групоргша — она, как я успел заметить, везде совала свой нос.
— Сало к молочному супу?! Впервые слышу. Ты бы лучше снял ватник. А то в чем на поле, в том же и за стол!
— Куда же мне его повесить, на твой язык, что ли? — ответил я, может быть, чуточку острее, чем следовало.
И правда, лежанка у плиты была сплошь завалена всякими одежками, и лежали они так, что к утру половина наверняка останется сырой, а вторая половина обуглится.
Групоргша умолкла, словно костью подавилась. Вмешался преподаватель:
— Нашли о чем спорить! Надо есть, что дают, с салом или без него. Может быть, конечно, где-нибудь и едят молочный суп с топленым салом. Так ли это важно, в особенности учитывая, что сала нам не выделили. А вот проблему сушки одежды действительно надо решить.
Сразу видно было истого университетского преподавателя, везде усматривающего проблемы.
— Так обидеть, так обидеть… — бормотала себе под нос групоргша, как святоша бормочет молитву.
— Странные вы какие-то, молодежь, — попытался примирить нас преподаватель. — Кто колюч, как еж, и бродит, словно пахта в горшке (он, наверное, имел в виду нас с Дзидрой, потому что выразительно покосился в нашу сторону), кто уязвим, как сырое яйцо. — Тут он взглянул на групоргшу. — Хочешь не хочешь, а жить предстоит вместе, так что иглы и колючки придется повтягивать, а язычки — попридержать.
После ужина стряпухи убрали посуду, девчонки пошли помогать мыть ее, а ребята вытащили карты.
Групоргша при виде карт разве что не затопала ногами и тут же принялась вещать:
— Азартные игры — пережиток прошлого! Играть в карты не к лицу советскому юноше!
Преподаватель уныло глянул на нее; видно, он и сам был бы не прочь перекинуться в картишки, но групоргша изрекала до того правильные истины, что спорить с нею он не решился.
Студенты заворчали:
— А что нам делать?
— Читайте, занимайтесь, учитесь!
— Темно.
— Ну, тогда делитесь планами на будущее.
Я бегом выскочил из дома, чтобы за углом нахохотаться всласть. И откуда только берутся такие? А ведь покажи ей шмайсер или обрез — чего доброго тут же грохнется на колени и запросит пощады. Видывали мы и таких в свое время. Но до чего же легко может испортить настроение один человек! А по какому праву? Легко сказать — сами выбирали. Да ведь мы друг друга совсем не знали, выбирали тех, в кого ткнули пальцем преподаватели. А те, вернее всего, судили по школьной характеристике и биографии. Ну, скорее черт сделается младенцем, чем она на следующих выборах получит мой голос.
Когда, отсмеявшись и накурившись, я вернулся в комнату, здесь уже натянули веревку, и Дзидра успела повесить на нее и свой ватник и мой джемпер. Но я раздеваться пока что не стал: иди знай, сколько раз еще придется сегодня бегать за угол, чтобы погоготать вволю. Если удерживаться, недолго и животик надорвать.
И я правильно сделал, потому что отворилась дверь и вошла плотная женщина. По ее лицу и фигуре чувствовалось, что в свое время она была красавицей. Наверное, кто-то из колхозного начальства.
— Добрый вечер, — неторопливо поздоровалась она.
Что за черт: то ли еще сказывалось вчерашнее похмелье, то ли я заболел манией преследования, но мне почудилось, что вошедшая чересчур внимательно посмотрела на меня, и еще — что было в ее облике что-то знакомое.
Когда наш неслаженный хор с грехом пополам ответил на приветствие, женщина деловито поинтересовалась:
— Ну, как устроились?
Посыпались жалобы. И на тесное и грязное помещение, и на мокрую одежду, которую негде сушить.
Терпеливо выслушав всех, она ответила:
— Можно ведь печку затопить; тогда и в другой комнате будет тепло, и места хватит, хоть танцуйте польку.
Она распахнула дверь, около которой на соломе были свалены наши рюкзаки и отворить которую нам просто не пришло в голову. За дверью была сырая мгла, и женщина посветила туда фонариком.
— Тут настоящая голландская печь, кафельная. Немного, правда, растрескалась, так что иногда дымит. Топить надо из коридора, топка там, за кухонной дверью.
Но мне не верилось, что она пришла просто так, чтобы навести справки о нашем самочувствии. Что-то наверняка было у нее на уме, что-то было ей от нас нужно. И я не ошибся. Она немного помялась и, уставившись в пол, пробормотала:
— Не может ли кто-нибудь, человека два хотя бы, поработать пару часов на зерносушилке? Такое дело… Наши задержались в городе… Теперь уж вряд ли приедут. А зерно надо сушить, не то оно начнет преть. Семенная рожь…
Эх, не умела она просить! Мне стало даже жаль ее, потому что изо всех углов тут же понеслось:
— Это уж слишком!
— Мы за день вымокли!
— Взнуздали, как лошадей…
— Что мы, рабы?
А когда и групоргша не выдержала:
— В конце концов всякая сознательность имеет свои границы! — тут я мигом вскочил на ноги.
— Надо — значит, надо. Зерно — это хлебушек, а семенная рожь — хлеб вдвойне, вдесятеро.
Преподаватель медленно обвал всех глазами, и, не найдя второго добровольца, горестно вздохнул:
— Видно, придется мне…
Он выглядел в этот миг таким жалким, что я рассмеялся:
— Ну, что вы! А кто же станет следить здесь за порядком и моральным обликом? В сушилке ведь людей нет, там одно лишь зерно.























