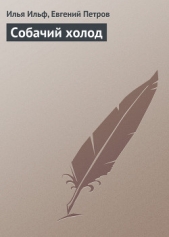Ладожский лед
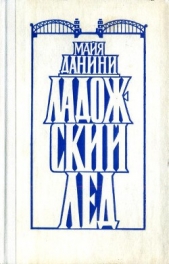
Ладожский лед читать книгу онлайн
Новая книга ленинградской писательницы Майи Данини включает произведения, относящиеся к жанру лирической прозы. Нравственная чистота общения людей с природой — основная тема многих ее произведений. О ком бы она ни писала — об ученом, хирурге, полярнике, ладожском рыбаке или о себе самой, — в ее произведениях неизменно звучит камертон детства. По нему писательница как бы проверяет и ценность, и талантливость, и нравственность своих героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наше насмешливое к этому отношение и его торжественная ярость по этому поводу:
— Ах, вам жаль жуков? Бедные жучки, их накололи на булавки! Да этому жуку, которому всего жить несколько месяцев, я сделал памятник! Это ведь не жук в предсмертных корчах, а вечно живой, веселый, воинственный жук! Его усыпили, а я расправил его, он ожил. Это теперь скульптура, вечность, он ползет, поднимает рога, ему твои насмешки все равно, что мне…
Но он сам создал этот мир насмешек и колкостей. Он сам всегда говорил едко:
— Ты жалуешься, что плохо покупают твои мозги? Они и стоят только то, что ты получаешь, а я отдавал свою голову даром. Просто даром.
— Нет, тебе платили больше, чем мне.
— Но не всегда.
Это была правда. Много лет он, согбенный и больной, работал ночами и днями, сколько было нужно для дела, не для себя, работал без устали, казалось — без нужды, просто работал и работал, как все в войну.
Он, вечно нападающий, насмешник, яростный остряк, в душе своей был ментором. Хотя менторство это, казалось, так чуждо его природе, а было. Ему так хотелось учить, наставлять и даже вколачивать то, что он знал, — совсем не бабочек и жуков, а математику. Такое странное сочетание беспокойного нрава и ума с магическим действием за столом. Упорное копошение тонких пальцев над мельчайшими лапками.
Наука была уже не нужна ему в последние годы, и он легко оставил ее, перешел к жукам, только преподавал. А умел он преподавать? Он умел вколачивать и выжимать из человека то, что хотел, этот процесс был мучителен как для него, так и для учеников. Он не жалел себя, а уж их и подавно.
О, как он не любил легких, прелестных студенток, похожих на его экспонаты, на те драгоценные блестящие капельки на атласе, тех мотыльков, которые едва касались предмета, как ему заранее казалось: раз они так хороши и так причесаны, то где им, когда, когда, думать? Где им знать? Он гнал их сразу, даже не пытаясь разобрать, знают они или нет, он внушил им, что они не знают, не знают, и все тут, хоть они знали. Они рыдали, приходили несколько раз, иногда по пять, шесть. Это была пытка для них и для него, они вопили и жаловались, но он был неуязвим совершенно. Однажды я спросила его, сколько у него было хороших учениц. Он ответил:
— Ни единой!
То есть не было ни одной женщины. Они обращались сразу в тупиц, которых он сам порождал своим видом, и преодолеть психологический барьер его отношения к ним они не могли.
О, я знала это его странное и таинственное умение поразить, сказать, заколдовать совсем, сделать так, что ты не могла ответить то, что отлично знала на самом деле, потому что, когда он вдруг, среди всех острот и шуток, дел и верчений в хозяйстве, скажем, оборачивался и спрашивал:
— А ты знаешь, кто написал «Портрет Дориана Грея»? — меня это ошарашивало совсем, будто речь шла о тех его формулах, которые я не пыталась даже постичь, будто речь шла об антимирах, и, запинаясь, я старалась вывернуться, превозмогая его уверенность в том, что я не знаю Оскара Уайльда, говорила:
— Ты играешь в шарады?
— Нет, ответь!
Я вскипала и говорила, что с ним всегда можно ждать приступа склероза и даже инфаркта, что мне не десять лет, а гораздо больше.
Ему нравилась моя злость. Он считал ее проявлением жизни. Вот уж поистине был он средоточием добра и зла, как дьявольский коктейль со льдом, который то обжигает, то охлаждает пыл страстей.
Он так любил спорить, одерживать верх над всеми, говорить властно, не слышать возражений, а в старости едва шелестел его голос, и надо было, чтобы все смолкли и остановились, чтобы услыхать то, что он хотел сказать.
Была история с ним. Однажды в юности, когда все домашние обедали под яблонями за столом, он опоздал и ему все выговаривали, как он мог опоздать на обед. Он терпеть не мог выговоров и рассердился. Тут в его тарелку вдруг влетел майский жук, и он, вместо того чтобы вылить суп, стал говорить:
— Прекрасная приправа!
— Ах, ах, — кричали тетушки и бабушки, — налейте ему другой суп!
— Нет, — говорил он, — это прекрасная приправа! Я его съем.
— Нет, нет, — кричали тетушки и бабушки, — оставь!
— Я его съем.
— Слабо́! — сказал его брат.
— Я его съем.
— Ах, ах! — все еще кричали тетушки, для которых обед был смыслом существования, и он своим опозданием, жуком и всем видом расстраивал этот обед, вызывал у них ужас и колики в животе. Они уходили из-за стола, а он приговаривал:
— Хочу жаркое из жуков.
— Ты мне страшен, — сказала мать, когда он взял в рот жука и стал с хрустом жевать его.
И вдруг отец засмеялся и смеялся до тех пор, пока все не вернулись назад, пока все кончилось общим весельем.
Как знать — может быть, он с тех пор обрел вкус к жукам и стал собирать их?
Коллекция и рассказы о ней доходили до абсурда.
Когда его жена не спала ночами, а он сидел и накалывал и накалывал своих жуков, то она жаловалась:
— Ты сидишь, а я не сплю из-за этого.
— Потому, — говорил он, — что ты не думаешь про жуков.
— Нет, я потому и не сплю, что думаю про жуков.
— Нет, ты не думаешь, а ты думай и думай — и заснешь…
Братья сердились на него за это его умение отключаться от всего на свете и думать только о своей работе, о жуках, а не о близких. Один из них, биолог, говаривал, что все его жуки и вся коллекция составлена из разных частей разных жуков. Но, как бы то ни было, она, эта коллекция, осталась и по сию пору самой ценной из всего того, что он сделал, кажется самой ценной и вечной, фантастической и реальной, — коллекция, ныне выставленная в музее, где-то во Владивостоке, чудная коллекция на белом атласе, сверкающая так, как сверкают драгоценные камни.
ВКУС ЗЕМЛИ
«…И все-таки существует вкус земли, которая бывает сладка или солона, бывает вкусна или горька. Есть чистая земля, которой так мало осталось на свете, но она есть… Вкус земли отдается ягодам и картошке, морковке и простой брюкве, нежной брюкве, слаще дынь. Вкус чистой земли, ничем не испорченной, вкус земли вечной, такой, как бывает чиста и прекрасна вода глубины родников, забытый нами вкус этой земли существует еще и, верно, будет существовать еще долго, хоть и говорят, что нет больше ее, но она есть…»
Так пишет Майя Данини, и в этих словах — она вся. С ее обостренной духовной зоркостью. С ее поистине взыскующим стремлением уловить в человеческой жизни глубинное действие неких безусловных духовно-нравственных начал, чувствовать которые нам так же необходимо и так же трудно, как в бесчисленных плодах земных уловить этот единый и первозданный вкус — вкус земли, их взрастившей…
«Вкус земли» для Майи Данини — это прежде всего изначальная правда человеческих взаимоотношений, правда, еще не осложненная всякими житейскими обстоятельствами, не затерявшаяся в них. Правда, вытекающая из высокого благородства человеческой природы. И, я думаю, именно поэтому одной из любимейших тем М. Данини всегда было детство, древняя и вечно новая история души маленького человека, в котором «вкус земли» — это само его мироощущение, единственная и безусловная мера вещей.
Произведения о детстве, о том удивительном времени, «когда деревья были большими», — чрезвычайно тонкий и хрупкий жанр. И потому — труднейший! Ибо при том, что ребенок решает, по сути дела, те же самые проблемы, что и взрослые, средств у него для этого гораздо меньше, чем у взрослых. Зато они и более сильные, более безусловные, эти средства. Безошибочность нравственного чувства, стойкость поэтического мироощущения, масштаб — да, да, масштаб! — личности — именно от этого зависит, сумеет или не сумеет маленький человек отстоять прекрасную самостоятельность своего духовного мира.
Блестящее тому подтверждение — повесть «Дом без взрослых». Герои ее — дети, старшему из которых нет еще и четырнадцати. Удивителен их мир, исполненный бесчисленных радостей, озаренный ликованием от счастья жить на этой прекрасной земле. И как они оберегают этот мир, как чутко ощущают малейшую опасность, угрожающую ему! Конечно, это мир несколько эгоистичный, заведомо исключающий какое бы то ни было присутствие взрослых. Но, право же, нельзя не простить ему этот детский эгоизм. Ибо «без взрослых» — это не без взрослых вообще, а главным образом без тех, кто не верит, что «деревья» действительно бывают «большими», кто на каждом шагу готов доказывать, что цветок — это просто растение, а сказочно прекрасное озеро — это всего лишь вода…