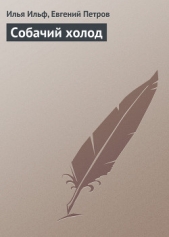Ладожский лед
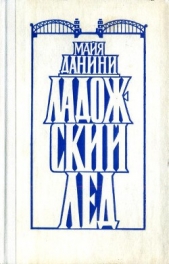
Ладожский лед читать книгу онлайн
Новая книга ленинградской писательницы Майи Данини включает произведения, относящиеся к жанру лирической прозы. Нравственная чистота общения людей с природой — основная тема многих ее произведений. О ком бы она ни писала — об ученом, хирурге, полярнике, ладожском рыбаке или о себе самой, — в ее произведениях неизменно звучит камертон детства. По нему писательница как бы проверяет и ценность, и талантливость, и нравственность своих героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Улыбался уже — хорошо улыбался, говорил:
— Приезжайте вот на кордон ко мне. Картошку сажать, картошку есть.
Принимал все как должное. Слушал гениальные мысли наши, слушал все бредни и не бредни, иногда сердился, но чаще слушал. Иногда сам начинал говорить, но больше слушать мог и никогда ничего из своих сочинений не читал нам вслух и читать не давал никому. Писать писал, а читать не давал.
Кто верил тому, что пишет он великолепные вещи — он уже печатался и имел успех, — а кто не верил, только все равно все тянулись к нему. Может, и потому, что рад он бывал гостям на своем кордоне, в одиночестве. И потому, что был он все-таки человеком веселым и серьезным, честным и прямым. Что хочет сказать, так и скажет, что думает, — это был главный сюжет его существования: говорить, что думаешь, — и мы — за ним или сами по себе — тоже.
О, лес живил и радовал, лес манил и сулил все блага и все счастье. Увидеть его было счастьем, погрузиться в него — радостью несказанной: пожить хоть день, хоть два — воскреснуть.
Видно, лесными жителями были предки, хоть и не жили в лесах, но вышли из них. А может быть, было это лесное существование тоже ими продиктовано — поклонение лесу, природе, воде и земле.
Он тогда не курил, да и сейчас не курилка. Он и не пил, кроме воды и чая, ничего; он дышал так яростно, глубоко, ровно… Верил, что дышать нужно именно так.
По вечерам сидели возле печки, грелись, смотрели на огонь, но становилось тоскливо от скудного света керосиновой лампы, от того, что лицо горело, а спине было холодно, и хотелось домой, скорей домой, чтобы зажечь электрическую лампу, включить телевизор, лечь на мягкую кровать, чтобы было сухо и тепло, а то здесь одеяла сыроватые, вообще все чужое. Домой, домой — и садились в машину, сколько могли, шесть так шесть человек, семь, сколько влезет — хоть до остановки автобуса, уезжали скорее, а он оставался или иногда тоже уезжал: и ему хотелось из лесу в город. Но не всегда, чаще он оставался в сыром бору, в одиночестве: ждать утра, солнца, света и тепла.
Лес теперь был темным, враждебным, холодным. Лес был чужой и немножко страшный, но вырывались из него на свет асфальта, шоссе — и резко ехали и обгоняли, веселились. Машина казалась прибежищем тепла, цивилизации, уюта. И — приезжали. Если одни, то радовались своему дому, пустой нашей квартире, где была горячая вода и ждала кровать — сухая, мягкая, своя. Падали в нее, засыпали блаженным сном — и светились во сне яркие земляничины, тяжелые ветки елок, весь лес, просвеченный солнцем, горящий на закате, — снова издали он манил к себе.
Иногда казалось: что́ он там может придумать один, в своем лесу, что еще о лесе не сказано, что делать столько лет в лесу, в одиночестве, что наблюдать, когда уж все наблюдали и писали, все всё сказали? Надо жить, как все живут, нечего ставить себя в какие-то там удивительные условия, делать нечто, чего никто не делает; нечего мерзнуть и мокнуть, ходить за керосином десять километров; нечего сидеть впроголодь — теперь-то, когда он мог бы жить и в домах творчества, в городе — все сидеть и сидеть на своих жестких стульях и выжидать, когда солнцем обогреет. Пустяки все это! От холода и голода фантазии не приходят в голову — на уме одни заботы о еде и тепле. Все силы на это уйдут, и только. Что могут сказать хорошего лошади да волки, что придумают они нового?
И лошадь сказала свое слово. И волк, и корова, больше того — всякое дерево шепнуло что-то, всякий листик, муравьишка, каждая бабочка прошелестела своими крыльями то, что давно было забыто, каждая травинка, даже тропинка заговорила, даже сухая ветка и хвоинка. Все вдруг ожило под его руками, все вольное, бесшабашное, смешное пошло плясать вприсядку, заколесило, заговорило, вдруг стало бодливым, кусачим, живым и волшебным, простым и сложным, смешным и грустным. Все отразилось в нем. Он ничего не забыл, он ничего не пропустил, не оставил в покое. Все сказки мира, все волшебные истории, все простое и реальное, обыкновенное и необыкновенное вдруг ворвалось в книгу — и закипело, заплясало, заискрилось. Все будто бы и не существовало до сих пор, а только теплилось, все будто бы и не жили, и никто не видел леса и тропинки между деревьями, ромашками и вереском. Никто не видел этого всего до него. И явился он, как Пан, — не бог, не зверь, не человек, а Пан, и его подруга Сильва — лошадь, черная корова и волк, уютная тропинка и ручей, лиса, которой все должны улыбаться при встрече и снимать шляпу, тетерка, которая хочет показать своих детей и заманивает к себе, земля и лес, лес… О, какой лес! На самом-то деле есть леса и получше — ух какие есть у нас леса, какие лесищи, таких и не видывал никто, разве что на экране, только на экране они не кажутся особенными, ведь для экрана все годится и любую вещь можно показать особенной, а леса на самом деле потрясают своей мощью и красотой, но у него лес, самый что ни на есть обычный для наших мест лес, оказался особым — одухотворенным, живым, говорящим. Не каким-то там лесом до небес, не каким-то светящимся, полным особого своего света — березы сами источают свет, а говорящим, дивным существом, которое страдает и живет, любит и ждет ласки, печалится и радуется.
И открылся свой особый мир — вольный и светлый, живой, искристый, бесконечный, весь состоящий из солнца и смеха, заманил этот мир и обступил со всех сторон, насмешил, развеселил, утешил.
И где стояла эта Сильва, которая летает по лесам, говорит человеческим голосом, иногда оказывается на небе, зовет в разные стороны, скачет над лесами, извивается как змей, приносит жеребят каждый год и удирает от хозяина, куда ей взбредет в голову? Где она была, мы ее знали? Видали? Нет, не видали, потому что, сколько бы мы ни знали ее, все равно бы не разглядели такой, говорящей лошадью, такой вот, какую увидел писатель. Нет, не писатель — лесник.
Кто выслушает ее, кто будет любить такую вот непутевую, нелепую и прекрасную гулену, которая и не работает совсем, знать не хочет узды и еды; стойла, корма и овса? Кто будет держать такую лошадку? Он… Потому что не все на свете польза делу, не все на свете разумно и рационально, не все необходимо, нужны и такие вот существа, чтоб Ивану не в догадки, где гостят его лошадки, чтобы ломать себе башку, что же это такое за символ, что за притча, что за выдумка — Сильва и ее хозяин?
Потому и пахали поле на «Москвиче», чтобы Сильва гуляла сама по себе и отдыхала на курортах. Потому и сажали для Сильвы картошку, чтобы она могла поесть зимой, чтобы была жива-здорова: ведь в плохие времена Сильва появлялась дома и просила поесть.
Работали за нее, а она жила себе и жила, как в сказке, и написала сказку о себе.
И все мы померкли, все мы отошли на задний план, а осталась она, она и он. И еще тропинка, дорожка, лес…
Если увидишь тропинку, то погляди на нее, на ее выражение. Какое у нее лицо. Какое? Она может быть веселая или унылая, петлять или идти прямо, — разве узнаешь, что за лицо у тропы? Но узнаешь, что она добрая, что по ней босиком идти — удовольствие, особенно поутру, когда ногам еще колко и весело. Она никогда не остановила тебя, не расплескала воду. Она для тебя твоя тропа, и ты идешь по ней, как корабль по глубокому океану. О, сколько можно дальше говорить о тропах, какие они — вересковые, моховые, мокрые, плачущие, веселые, живые, как змейки! До чего легко станет говорить о них, как только прочтешь его трактат о тропах, и сколько можешь добавить к этому! Так бы и продолжал: тропа бывает для тебя и для себя. Та, что для себя, так легко теряется в лесу, в бору. Вот была, была, шел по ней, шел, да и пропала она, завела в глушь, бросила тебя одну — иди куда хочешь, но зато расплескала возле ног землянику и чернику, костянику — что еще? Не увела никуда, а привела. Сиди на поляне и собирай.
Тропа бывает литературная, тропа бывает всякая, но литературная тропа это тропа не его и не наша, она — искусственная, она придумана, а его тропа — это самая простая дорога, та нехоженая дорога, по которой можешь брести неведомо куда, брести вечно, бежать рысью, галопом, лететь, мчаться, бежать, догонять… Ты можешь брести по ней, ей нет конца и края, она — твоя единственная, неповторимая, та самая, которая проложена им. Она ведет в тот мир — его только, который был доселе не ведом никому, он — открыватель этого континента, который называется весь мир.