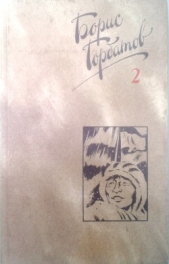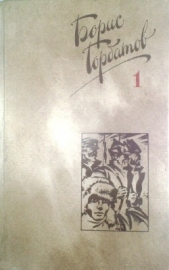Собрание сочинений в четырех томах. Том 4.

Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. читать книгу онлайн
В завершающий Собрание сочинений Н. Погодина том вошли его публицистические произведения по вопросам литературы и драматургии, написанные преимущественно в последнее десятилетие жизни писателя, а также роман «Янтарное ожерелье» о молодых людях, наших современниках.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стихотворения Аполлона Майкова; Кузьма Петрович Мирошев, М. Н. Загоскина; Эвелина де Вальероль. Сочинение Н. Кукольника; Париж в 1838 и 1839 годах. Соч. Владимира Строева; Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров на 1842 год. Издание И. Песоцкого; Русская грамматика, составленная А. Ивановым; Педант. Литературный тип; Русский театр в Петербурге; Князь Серебряный, или Отчизна и любовь; Ромео и Юлия. Драма Шекспира в пяти действиях, в стихах. Перевод М. Каткова; Отец и дочь. Драма в пяти действиях, в стихах. Переделанная с итальянского П. Г. Ободовским; Римский боец (гладиатор). Трагедия в пяти действиях, в стихах. Соч. А. Суме, переделанная с французского В. К.
И так далее, по литературной и театральной жизни того времени, всего сто тридцать две статьи, обзора и заметки в одном этом шестом томе.
Белинский был законодателем в литературе. Почему же этот блестящий ум растрачивался на такую черную критическую работу? Да потому, что Белинский знал: законодательство в литературе и искусстве совсем не то, что в иных областях. Это одно. А другое, не менее важное, заключается в том, что литература не образует пустот и не развивается от гения до гения. Вести надо всю литературу, а не отдельные ее корабли, да притом такие, которые наверняка не покачнет никакая волна.
А это очень трудно. Куда легче и спокойнее заниматься маниловскими рассуждениями о герое нашего времени, хорошо зная, что тебе самому его писать не придется.
И все же герой нашего времени явится. Конечно, он не будет создан по прописным рецептам. Он явится неожиданным, самобытным, блистательным, как Чапаев в кинематографе, как Корчагин в романе или Теркин в поэзии. Я беру типические примеры. Мы богаты героями, их множество. И должно быть множество, потому что мы отражаем великое многообразие жизни.
Давайте помогать друг другу живым вниманием, давайте развивать литературное соревнование!
1961
Свежий ветер тридцатых годов
С приятным трепетом в груди шел я в театр имени Вахтангова, куда послан был Лидией Сейфуллиной. Она снабдила меня рекомендательным письмом к известному режиссеру, поставившему в этом театре сейфуллинскую «Виринею», — Алексею Попову.
Постановка эта еще раз открыла Москве юный театр нового направления и обаятельных талантов. В свое время меня этот спектакль привел в счастливый восторг, какой я до того испытал впервые от мейерхольдовской «Земли дыбом», увиденной мной на гастролях театра в Ростове. Моя молодость была преисполнена революционным духом, и я, естественно, радовался и пугался встречи с человеком, поставившим «Виринею».
Письмо от Сейфуллиной было получено после того, как в небольшом кружке ленинградских писателей я прочитал свою пьесу «Темп». Эту читку устроила мне радушная Мария Михайловна Шкапская, корреспондент «Правды» в Ленинграде, — она слушала пьесу у себя дома и предвещала мне головокружительные и опасные успехи на театре.
По дороге в театр, на Арбате, я столкнулся с Валентином Катаевым. Он шел с читки своей пьесы «Авангард» и был, как мне показалось, настроен победно. Мы друг друга не знали, точнее, он не знал меня, и поэтому лишь один из авторов проявил к другому — мимолетно — острый интерес.
В вестибюле мне указали на худого человека с актерским лицом, в ярко–коричневом костюме, с портфелем. Он нервно торопился, разговаривая на ходу, но я остановил его без робости. Робости не было потому, что я с юности, как газетчик, привык смело навязываться на разговоры по роду своей работы. Я интервьюировал самого академика Иоффе, хотя в физических науках ничего не смыслил, и выпрашивал беседу у Михаила Ивановича Калинина, которую он, впрочем, не дал.
Что касается пьесы, театра и т. п., то я не мог всерьез выговорить слово «драматург» и пьесу написал по двум причинам. Первая состояла в том, что хотел написать. Вторая, тоже важная: я думал, что во время чистки советского аппарата у меня будут серьезные неприятности. Но к тому времени эта опасность исчезла, я был почетно оставлен работать в «Правде», значит, и пьеса теряла смысл «якоря спасения». К тому же хождение с ней мне надоело. МХАТ, куда я дал пьесу, определенного ответа не давал, хотя П. Марков сказал мне великолепные слова:
— У вас есть несомненный талант драматурга, но в пьесе нет драматургического стержня.
И когда через тридцать лет А. Арбузов твердит, что я не умею писать пьесы и что у моих пьес нет драматургического стержня, мне делается необыкновенно весело.
Все эти маленькие введения к встрече с Поповым мне необходимо сделать как экспозицию к дальнейшим историям.
Попов — человек хмурый. Я никогда не видел, чтобы он смеялся до упаду, до слез. И встретил он меня своим взглядом — точно всматривался во встречного и хотел немедленно определить его. Письмо прочел быстро, сделался озабоченным и позвал другого, высокого и худого человека с актерским лицом:
— Василий Васильевич, это очень важно.
К нам подошел Куза — тоже человек серьезного склада, но полегче, чем Попов.
Пьеса была со мной. Конечно, без папки, обтрепанная. Как журналист, я привык обращаться с рукописью просто. Она тут же перешла к В. В. Кузе. Он обещал дать ответ через три дня — и дал. Через три дня пьеса моя была принята, и постановщиком ее назначался А. Д. Попов, пожелавший работать со мной.
Мы начали встречаться. Мой постановщик продолжал всматриваться в меня — с любопытством и признаками симпатии. Я же познавал, что театральные «небожители» живут не столько поэтически, сколько буднично и трудно, и неприятностей у них всегда больше, чем в моем мире газетчиков. Алексей Дмитриевич тогда ссорился с вахтанговцами… со всеми или, может, с какой–то влиятельной группой — не знаю. Помню, он весьма холодно, даже враждебно отнесся к моим восторгам по поводу спектакля «На крови», поставленного Рубеном Симоновым.
Словом, у них что–то было очень неладно. Тогда я не знал, как знаю теперь, что в любом театре всегда «что–то неладно», и не мог разобраться, почему однажды Попов, придя ко мне, не очень весело сказал, что из театра он ушел. Я чувствовал, что с Вахтанговским театром мой постановщик расстается горько, если не болезненно, но ничего поделать с собой не может. Это качество — не уметь ничего поделать с собой — руководило его поступками всю жизнь и принесло, думаю, много горя этому импульсирующему характеру.
«Темп» он был не прочь забрать с собой, но лишь в том случае, если я сам заберу из театра пьесу. Иными словами, он вел себя очень тактично и щепетильно. Но как мне ни хотелось, чтобы он поставил пьесу, я не мог взять ее у театра, хотя бы потому, что в оттяжке ее постановки театр повинен не был, так как Попов ставил катаевскую пьесу «Авангард». И потом я почти никогда не делал подобных вещей, несмотря на беспощадное правило, существующее во всех театрах, по которому вашу пьесу за спиной у вас, не объясняя причин, могут снять с репетиций. Или вас будут хвалить, и тут же по каким–то всегда очень сложным причинам забудут все похвалы и вернут вам пьесу с тем каменным спокойствием, на какое способны натренированные театральные характеры.
Алексей Дмитриевич перешел в Театр Революции, который испытывал тогда кризис. Время было трудное — для любого театра оно чаще трудное, чем легкое: не было современных пьес и, кажется, не было людей, способных творчески объединить сложный организм этого коллектива. Так приблизительно я понимаю положение в Театре Революции в начале 1930 года.
Попову нужна была пьеса. Теперь я хорошо понимаю, почему он прицелился на меня, но тогда его внимание вызывало во мне лишь несостоятельное самомнение. Я был тем автором, который обладал чувством сцены, но — только чувством, и драматургии не знал. По–моему, Попов точно предвидел крах старых драматических сюжетов, бесконечно повторявшихся в XIX столетии. Но главной была новь, которая стучалась за кулисами театра. Он как–то говорил мне:
— Репетирую «Авангард». Молодой колхозник думает вслух, мечтает… А ручка у актера — развитая, гибкая, выразительная, играет кистью. Но то… неправда.