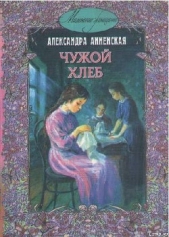Запоздалый суд (Повести и рассказы)

Запоздалый суд (Повести и рассказы) читать книгу онлайн
В настоящий сборник известного чувашского прозаика А. Емельянова вошли две новые повести: «Не ради славы», «Мои счастливые дни» — и рассказы.
В повестях и рассказах автор рисует жизнь современного чувашского села, воссоздает яркие характеры тружеников сельского хозяйства, поднимает острые морально-этические проблемы.
Отличительные черты творчества А. Емельянова — чувство современности, глубокое знание и понимание человеческих характеров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот и зима…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
По улице, по белой улице возле палисадника пробита уже тропочка, но к нашему дому — ни следочка, а на кольце калитки налип снег. Словно и в доме никто не живет. И я даже пугаюсь в первую минуту: не случилось ли что с мамой? Но нет: на ступеньках крыльца, среди пухлого снега — следы маминых чесанок! Ходила к корове и даже выпустила ее на волю, вот стоит, лениво подбирает со снега клочки сена. Странная у нас, однако, корова: длинноногая, как лось, круглопузая, как лошадь. Но мать вырастила ее с теленка и любит, хотя молоком она нас не очень-то балует…
А мама и в самом деле вроде как прихворнула, хотя и не сознается в этом. Не так оживилась, как в прежние мои приходы домой, не так радостно сияют глаза.
— Печку истопила, прилегла… Холод нынче какой, а я вот лежу и думаю: мерзнет мой Санькка без зимнего-то пальто, простудится. Сама уж думала идти к тебе нести валенки да пальто, а ты вот пришел!..
— Да ты-то сама не простудилась ли, мама?
— Нет, Санькка, нет, так чего-то, может, угорела, голова маленько кружится, да все прошло теперь.
— Лежи, лежи, не вставай!
— Покормлю тебя сначала, не ел ведь ты.
Я уже знаю, что прежде всего мама подаст мне — турых[Турых — здесь: варенец.]. Турых с домашним хлебом маминой выпечки — это «моя еда», и об этом мама знает с моего детства. Она варит турых в печи. Молоко томится в жару до тех пор, пока на дне котла не пригорит. А потом — закваска. Тут нет ничего таинственного, и часто закваску делаю я сам: пустить в стакан холодного топленого молока ложку водки, и все. Через сутки турых готов. Надо будет как-нибудь не полениться и принести в Кабыр, угостить Генку.
Пока я ем, мама опять заводит разговор о своем одиноком житье-бытье, и я уж знаю, к чему он сведется — к снохе и к тому, что пока она «ходить может», вырастила бы внуков. Так оно и есть! Я, по обыкновению, отшучиваюсь:
— Со снохой, анне, не столько радости, сколько горя.
— Что ж поделаешь, Санюк, где горе, там и радость бывает, жизнь большая, Санюк, как ее без горя проживешь…
— Да я, анне, не против, но, сама видишь, увели твою сноху в Чебоксары.
Мать вздыхает тяжело.
— Видно, бог не записал спать в одной постели, Санюк. Да я-то, старая, думаю, что найдется и та, что богом записана, только бы скорей отыскалась, я бы вырастила внуков, пока ходить могу…
И сам не знаю, отчего вдруг по сердцу полоснула мысль о Наде! И мне хочется спросить, не слыхала ли она, как Надя живет со своим Николаем Николаевичем, не приезжали ли они опять на «железном коне» в Хыркасы? Но мать вдруг сама заводит этот разговор. Оказывается, с Иваном Николаевичем происходит что-то странное: старик начал попивать кырчаму! С чего бы это? И все что-то зятя поминает худым словом. Нет, она сама не слышала, да вот люди говорят.
— Люди и набрешут, недорого возьмут, — говорю я, а самому с какой-то мстительной радостью хочется, чтобы мама продолжала рассказывать, о чем «люди говорят». Но нет, она умолкает, словно устыдившись пересказывать мне деревенские сплетни.
Однако мне и того достаточно — все во мне взбудоражилось. Я не нахожу себе места. Сел было за стол, взял книжки, пачал опять читать Фридриха Энгельса, а в голову лезут совершенно посторонние мысли. Пошел помогать маме рубить капусту, по тяпка тупая, я точу тяпку, а сам думаю о Наде. И жалко мне ее отчего-то, но в то же время и сверлит в мозгу: «Так тебе, так тебе!..» А что — так, и сам не пойму.
И вдруг вваливается к нам Иван Николаевич собственной персоной. Не помню я, чтобы он к нам захаживал, особенно последнее время, а тут — вот он, да еще заметно навеселе. Впрочем, это заметно и по его речи. Бывало, когда он выпьет по какому-нибудь праздничному случаю, язык у него развязывается, он говорит без передышки, да так, что и понять трудно: все с присказками да стихами.
— Марье-аппе[Аппе — сестра.], жива ли? Меня в гости не ждала ли?
Мама, сердито повозив на шестке чугуны, роняет:
— Проходи, садись.
Однако я не слышу в ее голосе непримиримой враждебности к «кроту»!
Я сижу в передней комнате, не вижу Ивана Николаевича, но мне нетрудно представить его: огненно-рыжие лохматые волосы, рыжие мокрые усы висят как-то особенно печально, когда он бывает пьян, так что как бы он ни хорохорился, но все равно вид у него получается из-за этих усов довольно унылый, а голубые глаза при этом блестят, будто он вот-вот заплачет. В деревне зовут его «Рыжий Иван», или «Пожарный Иван». Но вот что удивительно. В Наде ничего ист отцовского!
— Марья-аппе, как поживаешь, как век коротаешь? Ох, Марья-аппе! С утра прихожу, огород горожу, в котором сам не хожу…
— Чего же не жить мне! Санюк вон домой пришел, чего мне не жить.
— Голова объявился?! Ну-ка, где мои очки, дай посмотрю на него! Нет очков, Марья-аппе, дома оставил, лешак их подери! Ты чего смеешься, Марья-аппе? Голова приехал, приехал! Провинишься — попадет тебе первому, прославишься — так шире грудь, родина не пожалеет орденов. Всегда за всех в ответе, всегда за все отвечает голова. Так-то, Марья-аппе! Человек повесился, пожар ли случился, другой к чужой жене ходит или чего украл, так первым делом поминают голову. Ей, Санюк! Сам я, Марья-аппе, был головой, сам был Пожарный! Санюк, ты где там, Санюк? Покажись, Сашок-голова!
Делать нечего, я выхожу к нему.
— Ах, Санюк! Зятя нашел — огонь, шарахнется любой конь!
Хватает меня за руку, а голубенькие глазки словно слезами переполнились. Но ни на минуту не умолкает, так и сыплет, так и сыплет в рифму:
— Ой, железная блоха! Дочка ль у меня плоха?..
— Да чем тебе зять не угодил, Иван Николаевич? — пытаюсь я сбить его с этих загадочных «стихов». Но разве его собьешь — все вокруг да около, словно сам боится сказать прямо.
— Ах, эта нынешняя молодежь! Что посеешь, то пожнешь. Что посеешь, что посеешь… Дети, Санюк, чирьи на шее… Вон какой попался зять, только и знает, как бы взять…
— У него, наверное, и своего много, зачем ему чужое брать, — завожу я с другого конца. — Квартира, гарнитур производства ГДР, и на «железном коне» приезжает…
— Ничего ты не понимаешь, Санюк, хоть и голова… — Но тут же вскидываясь рыжей кудлатой головой: — Речи внятны, обхожденье приятно, а возьмется за горло и улыбается довольно! Ах, Санюк! Разве у меня не обеспечена Надька? Но ты, говорит, старикан, продай корову и свинью и одень-обуй Надьку мою! Ах, так? Я его раз — и квас, ты, мол, лучше оставь нас!
— Так и сказал?
— Нет, — вылетело у него с простодушием. — Что? Как бы не так, ты меня знаешь, я человек прямой, я скажу, как обрежу косой… — Но голова опять поникла. Тут и без слов, без признаний было ясно, что человека постигло тяжелое разочарование, какого, может, он не испытывал еще в жизни своей. Должно, зятек попался Ивану Николаевичу и в самом деле хваткий и качает из прижимистого «крота» с откровением, чем и поверг его в изумление и растерянность. Я замечаю, что и мама смотрит на поверженного соседа с состраданием, что забыла она свою неприязнь к нему, и вот вздыхает, жалеет его.
— Ладно, ладно, — опять бормочет Иван Николаевич, — вы меня не замайте, лучше пиво пить ко мне айдате. Проводил я зятя, чтоб ему больше не взяться… Слышь, Марья-аппе? Слышь, Санюк, пиво пить айдате. Марья-аппе… Сколько за жизнь накопил, все на ветер пустил…
Когда-то, в самое тяжелое и голодное послевоенное время, он был у нас в колхозе бригадиром, лет семь в бригадирах проходил, потом работал в МТС, которые я еще смутно помню, потом кладовщиком состоял, и всегда у него было хорошее личное хозяйство, по никто, правда, в деревне точно не знал, сколько он держит поросят, кур, — за высокие ворота приглашался редкий гость. И вот такой финал: «сколько за жизнь накопил, все на ветер пустил…» А теперь перед нами сидел потерянный, смятый человек, и его было жалко. Про себя, правда, я не могу сказать с такой определенностью, но по лицу мамы я видел, что она переполнена этой самой жалостью. Должно быть, ее привычка видеть Ивана Николаевича всегда уверенным, крепким, неприступным и гордым хозяином жизни в одну минуту разлетелась, развеялась, она все забыла и теперь видела у себя в доме просто несчастного человека. А природа этого несчастья уже не интересовала ее.