Города и годы
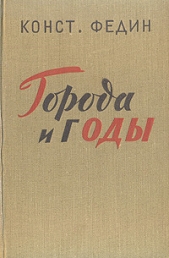
Города и годы читать книгу онлайн
Константин Федин. Города и годы. Роман.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потом он прощался с товарищами, и лица их казались ему застенчивыми, а поцелуи — деловыми. Товарищ Голосов лукаво спрятал в ладоньку беглый смешок и крепко тряхнул руку. Военный летчик Щепов отвел Андрея в сторону и дал ему письмо к отцу — Сергею Львовичу.
— Вам, может быть, придется задержаться в Петербурге, так вот... Вы можете остановиться у отца. Я тут пишу... Да, кстати, я написал, что женился, и, кажется, забыл сообщить, как зовут жену... Передайте. Впрочем, вы знаете? Я женился на Клавдии Васильевне...
Потом беготня по черным запутанным путям, между слепых вагонов, потом дорога в город, где надо было что-то сделать, — дорога одинокая и длинная. Все это заслонилось неотступным желанием еще раз пережить чувство совершенной свободы, то самое чувство, которое пришло в полях под Саньшином, — чувство бесплотности.
Может быть, Андрей боялся вспомнить сон? Может быть, он торопился искупить свою вину? Но его воля отдать себя лучшему, что он узнал в жизни, была неотступна и заслоняла собою все.
И только вот что разорвало ее непрерывность, литым мечом откинуло в сторону весь этот день и сделало его прощальным:
Ночь была холодна. Небо стояло необычно высоко, и звезды на нем были мертвы. Площадь перед вокзалом не лежала, как всегда, пустырем, а простиралась — пустыней. Лошадь переставляла ноги, извозчичья таратайка кренилась вправо и влево, но ощущения езды, движения не было. Внезапно неразличимая в ночи фигура впрыгнула на подножку пролетки. Лошадь стала.
— Рита! — вскрикнул Андрей.
— Я хотела, чтобы никто не видал, чтобы не [464] видал Голосов, — задыхаясь, проговорила она. Потом упала ему на плечи, ледяными губами зажала его рот, холодными рассыпавшимися волосами коснулась лица, шеи, рук, нежданно горячо, в этом осеннем холоде ночи, губ и волос, опалила:
— Прощай!
Он должен был что-то крикнуть, потому что крик подкатился к горлу, потому что Рита рванулась с пролетки и убежала в ночь, потому что вдруг стало так, точно он уходил от матери, уходил навсегда, — должен, должен был крикнуть, но вместо крика ткнул в спину извозчика и выдавил из горла через силу:
— Гони!
И вновь заслонилось все ясной волей — еще раз, скорее испытать, пережить, почувствовать то, что пришло в полях под Саньшином.
— Гони, гони, гони!
Потом Андрей забился в угол теплушки и, подняв высоко воротник, закрыл глаза.
Спустя час поезд волочил его по пути в Петербург.
В этот час Курт Ван, составляя донесение в Москву о работе Семидольского совета солдат Германии, написал последний пункт записки:
Глава о девятьсот двадцатом
Чехлы сняты
За окнами медленно падал легкий, пушистый снег. Горы теснились белые, почти прозрачные, и свет от них наполнял комнату покоем. На столе под широкодонным кофейником колебалось синеватое пламя спиртовки.
Обер-лейтенант фон цур Мюлен-Шенау осторожно снимал с картин холщовые чехлы. Он бросал чехол на пол, спускался неторопливо с лесенки, отходил на несколько шагов и смотрел на картину. Потом опять взбирался на лестницу, обнажал следующую картину и снова рассматривал ее издали. Иногда он оборачивался к окну, глядел на плавное падение снега, поправлял засученные рукава еще не смятой рубашки и вновь принимался за работу. Ему помогал неслышный слуга, складывавший в угол чехлы и переставлявший лестницу.
Обер-лейтенант выпил подряд две чашки кофе, раскурил трубку и приказал: [466]
— Приготовь умыться и поди седлай.
Слуга вышел, но через минуту вернулся и доложил:
— Фрейлейн Урбах.
Обер-лейтенант стиснул ручки кресла, выбросил туловище вперед, чтобы вскочить, но тотчас овладел собою, поднялся спокойно и спокойно ответил:
— Проси.
Мари вошла быстро и остановилась посреди комнаты. Ее еще овевала свежесть легкого мороза, и на плечах ее блестели следы растаявших снежинок.
Обер-лейтенант поклонился. Мари стояла неподвижно. Он шагнул к ней, и правая рука его заметно дернулась. Он начал:
— Вы пришли...
Ему что-то мешало говорить, он осмотрелся, как будто неожиданно попал в незнакомую комнату, направился к двери и попррбовал, хорошо ли она затворена. Возвращаясь к столу, он миновал Мари с каким-то усилием: шаги его замедлились, и он должен был наклониться, чтобы они не остановились.
— Присядьте, — сказал он.
Но Мари продолжала стоять, глядя в сторону. Он смотрел на нее, и пальцы его опущенных рук подергивались, точно он все время хотел что-то взять или сделать какое-то движение и все время раздумывал. Всегда чуть раскрытые губы его обнажили крепкую белизну зубов, и лицо стало сразу испуганным и хищным.
— Почти четыре года... — вновь заговорил он. — Я никогда не думал, что в этой комнате увижу вас такой... чужой. В этой комнате, Мари... [467]
Она внезапно перебила его:
— Вы обманули меня?
— Я? — воскликнул обер-лейтенант.
Взгляды их встретились на мгновенье, потом Мари опять отвела глаза в сторону, и обер-лейтенант повернулся к столу. Он выдвинул ящик, достал бювар, открыл его, вынул засаленный, помятый конверт, подошел к Мари и молча подал его ей. Она разорвала конверт, взглянула на начало письма, на его конец, — и обер-лейтенант видел, как по ее щекам разлилась густая и медленная кровь. Мари зажала письмо и спрятала руку в кармане пальто.
Обер-лейтенант отошел к окну и, всматриваясь прижмуренно в глубокую снежную рябь, с усилием расставил внятные слова:
— Я вас никогда ни в чем не обманул. Обманули меня вы.
Мари отозвалась тихо:
— Я не люблю вас.
Он не ответил. Она помедлила, потом внезапно громким голосом и торопясь сказала:
— Я не верю ни одному слову в вашем письме. Это все — ложь, что вы написали...
Тогда обер-лейтенант круто обернулся к ней, заложил руки за спину и захохотал. Он хохотал, покачиваясь вперед и взад, не сводя с Мари взгляда и притопывая носками сапог по ковру. Смех не давал ему выговорить ни слова. Наконец он успокоился, приподнял одну бровь и, небрежно шевельнув плечами, посоветовал:
— Мне думается, уважаемая фрейлейн, что лучше всего было бы, если бы вы прокатились в Петербург, чтобы убедиться, в какой мере соответствует действительности все то, что вы изволите называть ложью... [468]
Он прищурился на Мари, опять застукал ногой по ковру, взялся за трубку, но не закурил и бросил ее на стол. Боль и надменность переметнулись на его губах, и он спросил:
— Вы ненавидите меня?.. Что делать. Я написал вам одну правду...
Он вдруг заметил, что Мари бледна и странно покачивается, не переставляя ног. Он двинулся к ней, но она быстро повернулась и пошла вон из комнаты.
Обер-лейтенант прислушался, как угасали ее шаги, кинулся к двери, но не добежал до нее, выкрикнул что-то бессмысленное и жесткое, как брань, и остановился.
В углу лежали аккуратно сложенные стопой холщовые чехлы. За ними высилась снятая со стены картина «Дворик Немецкого музея в Нюрнберге». Обер-лейтенант вынул из кармана перочинный нож, раскрыл его, переступил через чехлы, с размаху всадил нож в картину и провел им из угла в угол полотна.
Звук был такой, как будто на железную крышу бросили горсть гороху и он посыпался по скату в желоба.

























