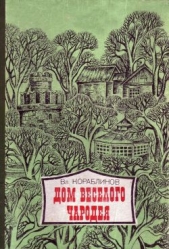Сердце на ладони

Сердце на ладони читать книгу онлайн
Роман "Сердце на ладони", удостоенный Государственной премии БССР, посвящен жизни белорусского народа, героически боровшегося за свободу и процветание Родины в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Проникновенно, с большой любовью к людям рисует автор патриотизм своих героев, богатство их духовного мира, святость дружбы, борьбу за высокие идеалы коммунистической морали. В центре этого многопланового романа жизнь двух семей: известного хирурга Яроша и журналиста. Большой дружбой и общностью интересов связаны эти семьи. Сильные духом, самоотверженные труженики и искатели, они живут интересной и яркой жизнью. Любопытна линия молодых представителей этих семей: Маши, Славика, Тараса и других. Со многими людьми и судьбами, переплетенными в замысловатом, интересном сюжете, познакомит этот роман читателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я их помирю, — убежденно сказал Тарас и сам поверил, что сумеет сделать это, хотя хорошо помнил, чем кончилась первая попытка поговорить с матерью.
Галина Адамовна была дома. В спальне. Тарас постучал. Она, должно быть, лежала и, наверное, плакала. Когда Тарас, получив разрешение, вошел, она стояла перед трюмо и протирала глаза, словно только что проснулась. Она увидела его в зеркале, но не обернулась. Он растерянно остановился возле кровати. Боялся, что она опять недвусмысленно попросит его не совать нос куда не надо.
— Галина Адамовна, я все-таки хочу поговорить с вами. Серьезно. Выслушайте меня.
Она отвела покрасневшие глаза от зеркала, повернулась:
— Тарас! С тех пор как я увидела, что ты уже не ребенок, я не вмешиваюсь в твои дела. — Она сказала, собственно, то же, что и в первый раз, но совсем по-иному, без злобы, раздражения, измученным голосом и даже улыбалась так, словно просила прощения. Он понял, что теперь она рада была бы, если б кто-нибудь вмешался.
— Я люблю вас, мама, — слово это вырвалось как-то само собой, от жалости к ней. Галина Адамовна подняла на него глаза, они заблестели слезами. — И отца люблю. Вы для меня самые дорогие люди.
— Не надо, Тарас, — тяжело вздохнула она. — Ты — это одно, а наши отношения с Антоном — другое.
— Ваши отношения — это какая-то нелепость. Вы поверили сплетне. Отец мне говорил… Послушайте меня, мама. Казкдый день я бываю там… Я люблю Машу. После Нового года мы поженимся.
— Правда? — в глазах ее мелькнуло любопытство.
— А Софья Степановна, разве она на это способна? Подумайте, сколько она пережила!
Галина Адамовна закрыла лицо руками и замотала головой.
— Ты всего не знаешь, Тарас. Ты главного не знаешь. Да, она много пережила. Тем более… Но дело не в ней… В нем… Зачем он скрывает, обманывает? Почему? Что я, такая уж глупая, подлая? Скажи, была я когда-нибудь скупой? Они подружились в подполье, ему хотелось помочь ей. Пожалуйста. Неужели я не поняла бы, если бы все сделать по-человечески? Теперь он попрекает, что я не понимаю его, всегда бог знает что думаю о нем… А что он думает обо мне, если тишком… С этими деньгами… — Лицо ее передернулось. — Кем же он меня считает? Это не оскорбление? — выкрикнула она. — Он чувствует, когда оскорбляют его. А сам!.. Я терпела все, я стерпела бы и это, если б по-человечески. Я уже было смирилась. А он не переставал лгать, таиться… Ты не знаешь главного. Он изменял мне всегда! Всю нашу жизнь. Обманывал, лгал!..
— Неправда! — не сдержавшись, решительно запротестовал Тарас.
Она отняла руки от лица, сухими горячими глазами посмотрела на него, скорбно покачала головой.
— Да кто мне поверит? Мне не верит даже Валя Шикович, женщина. Он мудрый, великий, добрый. Он всех заворожил. Тебя, Наташу… друзей. О-о, доктор Ярош! Светило! А что его жена? Бездарный зубной врач, мещанка. Кому теперь дело до того, что свою молодость, здоровье я отдала ему, тебе, детям?..
Последние слова Галина Адамовна произнесла со злобой, и Тарас смутился: она как бы бросила упрек и ему. Должно быть, она сама это поняла, потому что переменила тон.
— Теперь вы считаете, что я стала психопаткой. Может быть, я и правда психопатка? Так я не хочу никому отравлять жизнь! Никому! Пусть остается со своим талантом, со своей славой!.. Только дети… Дети — мои! — крикнула она и, упав лицом в подушку, глухо зарыдала.
Тарас не знал, как успокоить ее. Когда постучал в дверь, был уверен в непоколебимой логике своих доводов. А сказал две фразы — и вот они, все доводы, нечего и прибавить. Он переступал с ноги на ногу и тихо, нерешительно просил:
— Не надо, мама… Успокойтесь, Галина Адамовна!
Она вытерла лицо о наволочку и так же неожиданно, как упала, поднялась. Сказала без слез, без истерики, трезво и жестко, как о деле давно решенном:
— Если ты действительно желаешь мне добра, помоги оформить развод. Самой мне тяжело и… неприятно…
Чего угодно ожидал Тарас — слез, жалоб, проклятий, — только это не могло даже в голову ему прийти. Сперва, ошеломленный, он только хлопал глазами, пристально вглядываясь в заплаканное лицо женщины, вырастившей его. Он действительно любил ее, как мать. Но в этот миг она показалась ему чужой и враждебной. И он почти крикнул:
— Это все, что вы могли придумать? А у Наташи вы спросили? А у Вити?
Наташа и Витя понимали, что подслушивать нехорошо. Но спальня рядом с кухней, и они невольно услышали первые слова матери. Чтоб о'ольше ничего не слышать, они, не сговариваясь, перешли в отцовский кабинет — самую изолированную комнату. Сели там, одна на диване, другой в кресло, и молча сидели. Не читали, не разговаривали, не решались почему-то даже посмотреть друг — другу в глаза, точно стыдно было. Просто ждали, как в приемной больницы или суда. Долго ждали. Когда наконец Тарас вернулся, они взглянули на него с надеждой, с вопросом. Наташа соскочила с дивана и бросилась навстречу. Тарас устало улыбнулся им, но повторил с прежней уверенностью:
— Я их помирю.
34
— …Нет, скажи, верил ты, что Савич наш человек?
— Ты не представляешь всей сложности борьбы.
— Предположим, что, кроме тебя, есть еще люди, которые представляют себе эту сложность. Вернувшись в бригаду, ты сказал, у кого скрывался в городе?
— Нет.
— Почему?
— Наивный вопрос. Ты думаешь, что этим признанием я мог бы реабилитировать Савича? Кто бы мне поверил? Я десять дней пробыл в городе и попал в такой момент, когда ничего нельзя было сделать, когда шли аресты, проваливались явки. После этого я явился бы и сообщил: меня скрывал Савич, которого убили подпольщики, а немцы с помпой похоронили. «А может быть, тебя скрывало СД?» — спросил бы, наверное, каждый партизан. Докажи, что ты не лысый. Ты забываешь, какое было время.
— Короче говоря, ты струсил.
— Ну, струсил, струсил! Если тебе так хочется, чтоб я сказал это слово. Я эвакуировал город — не трусил. Отступал до Москвы — не трусил. Меня послали обратно в тыл — я не бегал по комиссиям, как другие. Ни разу не прыгал с парашютом — прыгнул, в ночь, в болото, под боком у немецкого гарнизона. Водил людей на операции — не трусил. Пошел в город на связь, чтоб наладить разбитое подполье, — не трусил. Ну, не вышло, как хотел, не получилось…
— Не кричи. И не бряцай своими медалями. То, что делал ты, делали тысячи, миллионы… Мы выполняли свой долг.
— Да, я испугался. А другие не трусили?! Все, кто пережил тридцать седьмой! Одно дело пасть от пули врага. А умереть от рук своих товарищей, чувствуя, что ты ни в чем не виноват… Ты представляешь? Ты думал когда-нибудь об этом?
— Думал. И сейчас подумал: как чувствовала себя Софья Савич, когда после фашистского концлагеря попала в Сибирь.
Пауза. Громко, с легким мелодичным звоном отбивает секунды большой маятник стоячих часов. Астматически дышит один из сидящих здесь в кабинете.
— Я думал. И видел не раз, как шли на смерть, чтоб спасти товарища. И я это понимал. А вот донос на людей, которые тебя спасли, — этого я понять не могу.
— Ну, смалодушничал, смалодушничал! Я же не скрываю. Я написал об этом в объяснительной записке. Признаю. Да, испугался, что придется заниматься этой старой историей, доказывать… Ничего же не изменилось в сорок пятом, ты знаешь.
— Мы победили фашизм, — и ничего не изменилось?! Для тебя ничего не изменилось?
— Теперь легко рассуждать.
— Ну хорошо, тогда ты побоялся. Дрожал за свою шкуру…
— Я прошу…
— Чего там «прошу»! Не разыгрывай святую невинность. Дрожал, как последний трус. Лишиться партизанской славы, карьеры — вот чего ты боялся. Но вот уже девять лет, как его нет, нет Берия. Несколько лет прошло после Двадцатого съезда. Партия сказала всю правду! На весь мир. Почему же ты не сказал правды о себе, о других? Ради чего, во имя какой идеи ты скрывал ее?
— Это что — допрос?
— Я не звал тебя. Ты пришел сам, чтоб «открыть душу», посоветоваться.