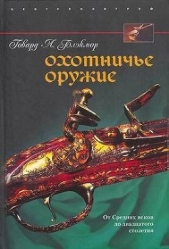Охотничье братство

Охотничье братство читать книгу онлайн
Проза одного из старейших ленинградских писателей Алексея Ливеровского несет в себе нравственный, очищающий заряд. Читателя привлекут рассказы о Соколове-Микитове и Бианки, об академике Семенове, актере Черкасове, геологе Урванцеве, с которыми сблизила автора охотничья страсть и любовь к природе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И так это просто, так по-хорошему сказал, что я, не раздумывая, согласился. Пошел с ним в деревню и провел там три дня. Несмотря на праздник, мы с Мишей успели постоять на тяге, а на вторую зорю он посадил меня в поставленный с умом и толково сделанный шалаш на тетеревином току в деревенском поле. Просил больше пары косачей не брать. Дельный охотник, и отец его, по всему видно, был такой. У нас на Руси известно, к охоте и охотникам относятся любовно-иронически — «рыбка да рябки — пропали золотые деньки», — несмотря на это, Мишину семью уважают, видимо хорошо они работают на общем деле.
И дома у Миши все складно да ладно: все есть, все на месте.
Светлая, чистая изба без перегородок. Стены без обоев, видны кое-где капли и потеки желтой сосновой смолы. Печка свежевыбелена. Мы сидим за праздничным столом, накрытым домотканой скатертью. Пахнет деревенской опрятностью: мытыми полами, свежим хлебом и кожей. На столе самовар, сахар, дешевые конфеты из местной лавочки, вареные яйца, мед, топленое молоко в кринке, холодец, разрезанный вдоль по корке рыбник из щуки, белый хлеб. В углу, на лавке, укрытое полотенцем ведро с пивом и ковш, — свой ли, чужой, подходи, наливай, пей, сколько душа просит и вместит.
Молодуха без излишней торопливости и приторности, свойственной некоторым деревенским хозяйкам, когда в дом пришел гость, принимала меня как своего. Она положила всем на колени чистые, расшитые красными узорами полотенца, сказала: «Доставайте, что есть. Не взыщите — особо беречь нечем».
Стыдно сказать, я тогда позавидовал Мише: его найденной, определенной жизни, простоте и ясности в семье, радости жизни с молодой любящей женой. Позавидовал, может быть, по свойству характера, а может быть, потому, что переживал в то время период большой душевной смуты. Плохо мне было тогда. И — что уже совершенно глупо, или это теперь так кажется? — всерьез раздумывал, не поселиться ли мне тут, рядом, построить такой же новый светлый дом, начать новую жизнь, и, главное, чтобы рядом такая же была жена, веселая, приветливая, манящая молодым сильным телом. Вот какая странная думка была тогда. Позже я не раз приезжал к Мише поохотиться и душевно отдохнуть.
Сразу после войны встретил в городе деревенского знакомого и узнал, что Миша погиб. А сегодня — такая встреча!
Миша оделся, вытянув костыли, присел на поваленное дерево, и мы принялись чаевничать. Я достал городские припасы и фляжку с самодельной настойкой. Миша выпил охотно, сразу полкружки, ел мало, безразлично, не по-деревенски. Я знал, что он заговорит, — молчал, не торопил. Он закурил, усмехнулся невесело:
— Только не жалей меня. Меня все жалеют, по самое горло, — тут он черкнул себя ладонью у подбородка, — просто жалеть, когда помочь нельзя. Знаешь, везло мне на войне. Пехота, людей, как косой, — мне ничего: ни разу не зацепило, не стукнуло. Не прятался. Что ты! Верно, будто бабка нашептала, до самого конца войны целехонек. И не болел ни грамма. Чирей один раз был… Дакось еще папироску, сам прикури.
Я прикурил от головешки сразу две папиросы. Подавая ему, близко глянул в глаза, увидел в них боль и отчаянность. Он говорил (в правой руке папироса, левой чуть-чуть пошевеливал в вынужденно скупом жесте):
— Воевал и воевал; сержант; конечно, медали, две «Славы»; начальство, хоть и молодой, уважает. Катилось долго мое колесо, мечтал, скоро назад покатится — конец войне. Конец, да оказалось не совсем, даже наоборот. Городишко там есть, в Германии, Зеебург, небольшенький, вроде наших Борович, только почище. Стояли там. Так у них все с умом, обихожено. Места? Больше напольные. И везде дома торчат. Все равно кое-какая живность есть, а зайцев сила — обязательно русаки, и куропаток, по-нашему полевых рябков, много. Коза есть. Тетерев по месту должен быть, однако весна, а не слышно…
— У них и кабана много. — Я старался, видя, что Мише тяжело, как-то разбавить, смягчить рассказ.
— Кабаны? Как тебе сказать, вроде есть, видел разок прямо с машины порои, не скажу точно. Должны быть. Ладно, вызывают меня в роту, одного. Шел по большаку — дороги у них, прямо сказать, хорошие, — тепло уже, без шинели, поля кругом подсохли, несеяны. Подумал, как-то у нас дома там, поди еще снегу-снегу. Самое время по насту ток проверить. Мошных у немцев вовсе нет, и где быть? Лесишки дырявые, топтаные. Про глухарей подумал — дальше не помню. Очнулся в Сибири, в городе Ачинске. Вижу, слышу — говорить не могу. И долго так было. Думать надо, миной накрыло меня, рядом. Налей-ка еще чайку.
— А водочки? Погрейся.
— Все равно, налей.
Расстроился, вспоминая, Миша. Я ему настойку налил, а он поставил кружку на чурку и помешал палочкой. Заметил, отбросил сердито, продолжал:
— Долго, ой долго по госпиталям, сколько раз операции — сосчитать не могу…
Рассказывал о себе Миша, а я слушал горькую, такую горькую, но будто давно знакомую историю. И про то, что не писал домой писем, а сам узнал, что пришла на него похоронка, умерли в тяжелые годы отец и дочка Грунюшка от воспаления легких. Про то, как глянул на себя в ванне — «был деловой кряж, осталась оторцовка» — и решил не возвращаться домой. И все же вернулся. И как подвезли его на санях к родному дому. «Жена выскочила, слова не сказала, выдернула меня с дровней, как куль с сеном, на спину навалила — и в избу, будто боялась, что убегу или дальше повезут». Кривились у Миши губы, когда описывал, что застал дома: «Изба, что пустая пчелина колода, даже без вощины. Что нажито — прибралось. Кота на печке — и того нет».
Говорил Миша не торопясь, роняя слова, как жгучие капли, отмеривая их коротким жестом калеченой руки. С обидой сетовал на район, куда не раз вызывали на комиссию: «Что таскали? Нога не борода — не вырастет», а потом оставили в покое. Разок присылали фельдшерицу с порошками и шприцем: «А что меня колоть? Сам чуть живой, и не во что — задница, как у дохлого зайца».
Отвернувшись от жара костра, Миша замолк надолго; казалось, внимательно наблюдал, как широкие солнечные лучи пронизывают крученые космы дыма. Прилетел зяблик, уселся над нашими головами и частыми трелями старался перекричать ровный гул и потрескивание костра. Еловые лапы в теплом восходящем дыму плавно покачивались, будто подтверждая рассказ: «Да! Да! Так! Так!» Я понимал, что главное еще не сказано, но он молчал. Тогда я стал расспрашивать по обычной схеме разговора при встречах — как живешь, что поделываешь? — не очень пригодной для данного случая.
Миша отвечал нехотя, схематично, иногда выпячивая памятную деталь: «Картошка-матушка — и та не вдоволь. Пестыши собирали, ели, сосновый сок» — это про послевоенную жизнь. А про сегодняшнее, когда, как я понял, справились, завели хозяйство, заключил, улыбаясь: «Кот откуда-то, видать издалека, пришел и остался жить». И вдруг неожиданно зло, с болью в голосе: «И я, не суди, вроде того кота».
Тут-то я и понял, что печалило моего приятеля. На войну уходил хозяином, основным работником. Теперь что? Жена на работе день и ночь, он — домашничает. Правда, «есть теперь кому курям корм подбросить». Хоть одной рукой. Был природным пахарем, ремесла никакого не знал. Теперь бы, как все, в механизаторы, комбайнеры, трактористы — не выходит при его калечестве. Сиди дома. Ой! Не по характеру. И он подтвердил, сказал в конце моих расспросов: «Так и стал котом-домовником, только что мышей не ловил».
Один котелок мы выпили, я пошел за водой. Солнце поднялось высоко, разгорелось, распаяло снег. Зашумела, забуянила вешняя вода. Быстро вытаивал угор над болотом. Из каждого островка снежной крупы струился язычок прозрачной влаги, сливался с соседним и с легким шумом бежал вниз по склону. На глазах верховодка синила, заливала белую гладь мшаги. В высокой голубизне вихлялась в брачном полете пара воронов. Плавно, одна за другой летели чайки, все в одну сторону: искали или нашли уже где-то открытую воду. На проталинах земля парила и пахла весной.
Осторожно черпая кружкой в котелок, отодвигая плавающую хвою и палые листья, я думал о Мише, пытаясь угадать, почему в его, в общем-то, печальных глазах иногда проскакивали веселые, живые искры.