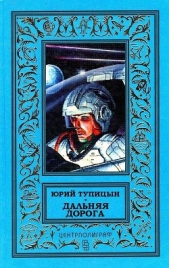Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе.
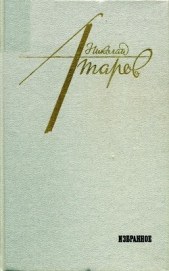
Избранное. Повести. Рассказы. Когда не пишется. Эссе. читать книгу онлайн
Однотомник избранных произведений известного советского писателя Николая Сергеевича Атарова (1907—1978) представлен лучшими произведениями, написанными им за долгие годы литературной деятельности, — повестями «А я люблю лошадь» и «Повесть о первой любви», рассказами «Начальник малых рек», «Араукария», «Жар-птица», «Погремушка». В книгу включен также цикл рассказов о войне («Неоконченная симфония») и впервые публикуемое автобиографическое эссе «Когда не пишется».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Действительно, как кому.
— Я сказал: как Аму. Как Амударья.
Но Алехин уже не слушал. Он порывисто сел и воткнул палец в песок.
— Вот так поставь палец — и река свернет в сторону. Сколько стариц на реке пересохших. Там, выше, возле переката, в восемнадцатом году баржа затонула. Я на ней плавал водоливом. Баржу эту занесло в одно лето, река свернула с пути, а в прошлом году я вздумал поискать — нет ничего. Река кругом обходит, а баржи нет. Всосало ее, что ли, или так занесло песком.
Они помолчали. Двухвостка быстро бежала по песку. Мастер приподнялся, отбросил ее брезгливым щелчком, — она отлетела на сажень, но вскоре снова показалась из-за песчаного гребня. Туров еще раз отбросил ее, она завертелась на месте и опять, точно в злом порыве, ринулась по песку. Тогда он забросал ее песком и стал давить пяткой.
На катере простучал и умолк мотор. У борта лодки плескалась вода. Зной… Воздух застыл… А за песчаным бугорком вели беседу пропагандист и бакенщик.
Васнецов доискивался первопричины.
— Где-нибудь же находится первопричина? — философствовал старик. — Вот я лежу и думаю: где же ей быть?
Он был счастлив, что нашелся наконец собеседник, непоспешный и благожелательный.
— А ты не лежи, — уговаривал караванный. — Ты старайся. Новый ход на перекате исследуй или там что другое. Бакены покрась, стекла раздобудь для фонарей. Личный почин, дорогой товарищ, горы сворачивает в нашей стране. Это, может, и есть твоя первопричина.
— Все понимаю, все понимаю, Тарас Михайлович, — почтительно соглашался Васнецов, но в самом согласии его скрывался новый каверзный замысел: видно, что не сдается хитрый старик, и беседа доставляет ему удовольствие сама по себе, как игра ума, независимо от ее результата.
— А время-то течет? — спросил он, сыпля песок с ладони на ладонь в ожидании ответа.
— Спешить не приходится — видишь, мост еще держит, — простодушно возразил Тарас Михайлович.
— Я не к тому. — Старик захихикал. — А вот граф Толстой Лев Николаевич тоже задался этим вопросом. Течет время. И что же он придумал? К какому выводу пришел? Если время течет, значит, что-то стоит. Что же стоит? — Васнецов поднял палец. — Стоит сознание нашего «я».
Тарас Михайлович решительно запротестовал:
— Ты что-то в сторону, Василий Иванович! Туману напускаешь.
— Я бывший священнослужитель и потомственный землепашец, — надменно возразил Васнецов, и лицо его сделалось вдруг суровым, как буря. Никто бы его не смог остановить. — Я и Ленина читал. Вы читали «Развитие капитализма в России»? — заносчиво спросил он пропагандиста.
— Конечно! — Тарас Михайлович даже сел от неожиданного поворота беседы. — А вы читали?
— Нет, извините, извините! Вот мой отец и был один из тех, о ком трактовал Владимир Ильич в главе о безлошадном хозяйстве.
— Кулак, что ли? — хмыкнул караванный. Он не должен был этого говорить, словечко само сорвалось.
Васнецов встал и выпрямился на худеньких ногах.
— Оставим этот суесловный разговор!
Казалось, что он намерен предъявить в виде последнего довода весь рост, всю длину своего сухопарого тела. Даже не взглянув на пропагандиста, он пошел к воде.
Алехин и Туров переглянулись.
— Вы коммунист? — спросил Алехин Турова, словно этот вопрос прямо следовал из того, что они сейчас слышали.
— Беспартийный.
Они лежали молча минуты три, к ним подошел Тарас Михайлович.
— Худым неводом ловишь, — сказал Алехин удрученному неудачей караванному.
Все утро они не заговаривали о самом главном, что их свело здесь, но ревниво следили друг за другом, и сейчас Алехин посмеялся над караванным, точно хотел еще другое что-то сказать, а что — и сам не знал.
Издалека послышался четкий стук дрезины.
— Начальник охраны едет.
Алехин вскочил и, не отряхнув с себя песка, пошел к воде. За ним поплелся Туров. В раздумье пошел и Тарас Михайлович, весь в песке.
А по мосту, гулко отдаваясь на всю окрестность, побежала дрезина начальника охраны.
Под каменными быками моста на мгновение стало прохладно; потом катер вышел в озаренное солнцем пространство, и снова застучал мотор, тревожа тихие берега.
Показалась избушка Васнецова. Старуха стояла, упершись руками в дверные косяки, будто и не тронулась с места, как уплыл вчера бакенщик.
На прощанье бакенщик подобрел, помирился с Алехиным и даже с Тарасом Михайловичем, и, отплывая от катера и поднимаясь по круче к избушке, думал о караванном уважительно, хотя и выражалось это стариковской вздорной усмешкой: «Одна ноздря чего стоит!»
Уложив Турова в тень, Алехин прыгнул к Тарасу Михайловичу в лодку.
— Жена обидела вчера, Тарас Михайлович. Перепугалась. Говорит: «Без поездки кончай». Так можно было и не затевать. Что с тобой, заскучал?
Тарас Михайлович не был настроен разговаривать с Алехиным.
— Нехорошо, нехорошо, — только и сказал он, разводя руками. — Обидел я человека.
— Так ведь вздорный старичишка. Ну, прямо баланда. У меня это с ним через день бывает.
— То-то что бывает, а не должно быть. И мне, дураку, наука не в пользу. Я не в первый раз так. Одному старьевщику на базаре как-то тоже в сердцах сказал: «Культсбор с тебя взыскали?» — «Взыскали». — «А подоходный?» — «И подоходный тоже». — «Ну вот и вся с тебя польза».
Алехин засмеялся:
— Хорошо сказал.
— А к вечеру человек запил. Значит, неловко сказал. Нехорошо. Значит, еще могла быть польза с человека.
— А мне что-то Туров не нравится, — сказал Алехин.
Тарас Михайлович не ответил.
В кубрике Миша пробовал баян. На полу лежал на листе газеты ржавый трехлопастный винт, похожий на мшистый камень, вынутый из воды. Глядя на винт, положив голову на лапы, по-взрослому вздыхал щенок. За окном полз берег, то удаляясь, то приближаясь вплотную — с овражками, из которых тянуло свежестью, с поникшими ветлами на пригорке, с желтым полем, на котором работали колхозники.
Катер шел быстро. Не прошло и двух часов, Туров не успел вздремнуть, как они уже были у брандвахты. В знойном воздухе, застывшем над рекой, брандвахта сверкнула железной крышей и вскоре вся показалась из-за мыска — плавучий домик, заставленный лодками, как будто припертый ими к берегу.
Туров поднял голову от подушки. Катер с выключенным мотором обходил затонувшую лодку, торчащую из воды одними уключинами. Кто-то плыл с середины реки широкими саженками. А на брандвахте хлопали дверями, бегали; кок в белом колпаке выглядывал из окон кухни.
Рослый рыжий мужчина в синих галифе и незастегнутой сорочке махал руками и басом кричал:
— «Привет тебе, Фламбо́!» Давай концы!
Это и был Шмаков, начальник плетневой партии, известный по всей реке своим необузданным гостеприимством.
— Вот что, ты дурака не валяй, — предупредил Алехин, бросая ему чалку. — Мы пообедаем у тебя, а дальше ты нас не задерживай.
Но Шмаков только гудел в ответ:
— Великолепно! Хо-хо-хо! Великолепно! — и накручивал чалку на кнехт, прижимая ее ногой, словно добычу.
Зоя первая спрыгнула с катера — в объятия своих подруг. С визгом и смехом они убежали.
— Будете дорогим гостем, — говорил Шмаков, вводя Турова под руку в кают-компанию и так гулко вздыхая при этом, что Алехин не мог сдержать улыбки: он-то знал, чего стоит Шмакову эта степенность!
В кают-компании было свежо и чисто. Косые квадраты света лежали на желтой дощатой стене, освещая на ней спасательные круги и на обеденном столе — букет полевых цветов в зеленом стеклянном кувшине и блюдо с малиной. Комната, напоминающая и корабельный салон, и подмосковную дачу, была пронизана солнцем.
Туров остановился у одной из трех дверей, выходивших в кают-компанию. На двери, на белом картоне, было написано акварелью: