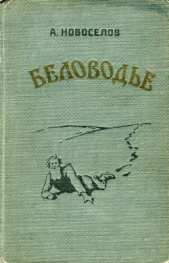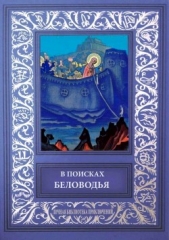Алые сугробы

Алые сугробы читать книгу онлайн
В сборник известного писателя В. Шишкова (1873–1945) вошли повести и рассказы, ярко рисующие самобытные нравы дореволюционной Сибири («Тайга», «Алые сугробы») и драматические эпизоды гражданской войны («Ватага», «Пейпус-озеро»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Афоня сполз с лошади и, скрючившись, валялся возле, прямо на снегу.
Вечерело. Лучи солнца косо ударяли в снег. Все заалело кругом. От грудастых сугробов и неровностей по алому полю ложились голубые тени, алмазы горели в снегу огоньками. Разливался зимний холод. Лошадь дрожала, от нее клубился пар. А позади, внизу, было лето, зеленела тайга, шумели травы.
— Мороз на дворе, зима… На печку бы…
Это Афоню мучила хворь, он бредил. Рука его самовольно поддевала снег, прикладывала к горячему лбу.
— Степан, — тихо позвал он, очнувшись. — Поди ко мне…
Степан взглянул на солнце.
— Ого! Фу ты, черт… Вечер! — и подошел к Афоне.
Афоня дрожал, глаза были возбужденные, большие, в темных кругах.
— Вот и отходили мы с тобой, Степанушка. Беловодью конец. Умираю. Трудно. Дух сперло.
«Баба… — подумал Степан. — Из-за тебя гибну», — и колючим взглядом в Афоню, как стрелой. Потом сказал, кривя губы:
— А ты верь. Что же ты хнычешь?
— Верю.
— Верь, верь. Авось бог валенки тебе пришлет, ангелы в баню поведут: парься! Эх, дура!
Молчание. Потом тусклый, рыхлый, как вата, голос:
— Смерть так смерть… Когда-нибудь надо же… За мир старались.
Трудно. Больной замолк, глаза закрылись, дышал тяжело, прерывисто.
Степан стоял в одеревенении.
— Жене моей кланяйся, батюшке кланяйся… — Афоня замотал головой.
— Отец твой давно померши. И жена также.
— Все равно кланяйся.
Степана что-то ударило в сердце.
— Скажи им, скажи…
Тут полились у Афони слезы, и лицо его исказилось.
Степан сказал:
— Пойдем.
— Закрой шубой, перекрести… Ступай.
— Пойдешь или нет?
Афоня молчал. Алые снега и небо вслушивались в человеческую речь, но были спокойны, холодны.
— Коня бросим. Я тебя поведу, пойдем. Я тебя, Афоня, на закукрах. Слышишь? Солнце закатится. Слышишь?!
Афоня заметался:
— Домой, домой! Я вперед тебя… Ковер какой — жар-птица… А ты верь, Петрованушка. Петрович… Ваня…
Степан снял с себя полушубок и сел перед умирающим на корточки. От Афони шел жар, дыханье вылетало хриплое, горячее. Степан укрыл товарища своим полушубком, огляделся вправо, влево и в одной рубахе неторопливо пошел вперед.
Идти было недалеко: громадная трещина саженной ширины пресекла путь. Она удалялась от Степана в обе стороны, и не видно ей конца-краю. Снег тут сдуло, обнажился темный лед. Острые, словно обсеченные, грани льда отвесно спускались в бездну, они отливали зеленоватым цветом, как бутылочное стекло.
Степан боялся подойти к обрыву: скользко. Он стал ползти. Заглянул в провалище. Бездонная тьма. Сделал руки козырьком, смотрел вниз пристально, долго. Тьма. Стало жутко. Вздрогнул и — ползком назад. Руки закоченели. Всего облепило холодом, сжало, заморозило. Степан взмахнул несколько раз руками, подпрыгивая и стараясь ударить себя по спине, чтобы согреться. Из груди мужика помимо его воли рванулся какой-то лающий, скулящий крик. Еще и еще. Зубы стучали. Степану ясно: это он скулит, его замерзающее тело мечется, требует: спаси, спаси. Вдруг как-то все ожило, все, что было позади, все вспомнилось. Назад бы, в жизнь бы! Глаза Степана расширились: «Помоги-и-те!» И другая, в левое ухо, кровь огнем кричит: «Так тебе, черту, так… Торчмя башкой… Ну!»
— Помоги-и-те!!
Резкий, отчаянный голос упал тут же, в ноги, и подхлестнул и взвил душу. Напряг Степан всю силу, какая еще оставалась в нем, какая была в этих алых сугробах, в морозе, в полумгле. Он решительно повернул назад и на бегу, не чувствуя пути, твердил одно и то же:
— Сам сдохну, а тебя, Афоня, выручу… Выручу, выручу, выручу…
Подбежав, он выхватил нож и полоснул в горло дремавшую лошадь. Рухнула, задрыгала ногами и, вывалив язык, грызла снег. Перерезанное горло ее хрипело, хлестала кровь в подставленные ковшом пляшущие пригоршни Степана. Жадно глотал кровь, захлебываясь и урча. И все закровенилось: лицо, борода, рубаха. Глаза пьянели, разжигались. В них быстро нарастала буйная, звериная мощь.
Степан перевел дыхание: «Сыт».
Афоня лежал под двумя шубами недвижимо.
— Афонюшка, товарищ… Повремени чуть-чуть, запри дух… Выручу, не умирай.
Осторожно стащил с него свой полушубок, оделся, плюнул в пригоршню теплой кровью, ударил ладонь в ладонь:
— Айда! Ррррработай!
И, не оглядываясь, только борода тряслась, ударился бежать вперед. Он знает: вот и край перевала. Увидит внизу: дым, огонь, жилище. Он будет звать на помощь, он скатится с кручи к жителям. «Братцы, спасайте человека! Человек замерзает, Афоня… Братцы!..» И чувствует, как коченеет, замерзает сам. Руки совсем зашлись, грудь едва дышит от усталости. Опять та проклятая щель. Как попасть? Волку не перепрыгнуть, широка… Дьявол!
И видит: там, за провалищем, на посеревшем небе, четко маячит всадник.
— Эй!.. — не веря глазам своим, радостно закричал Степан.
Но всадник не остановился.
— Эй! Стой! Стой!
Откуда-то пронесся ветер, взметнул снега, готовил к ночи вьюгу. Степан бросился вдоль бесконечной черной щели, отыскивал узкое место, чтоб перескочить.
— Стой!.. Стой!.. Стой!..
Ветер еще раз ударил вихрем, и не понять: сюда идет или удаляется всадник. Уходит. Ага! Вот, кажется, здесь поуже. Надо перескочить… Уйдет, уйдет…
Вся кровь ударила разом в голову, огонь метнул в глазах: «Спасай». Вложил пальцы в рот, свистнул оглушительно: «Сто-о-ой!!» — перекрестился.
— Эх, пропадай, душа… — и взвился над провалищем.
Страшный, смертный крик пронесся к всаднику. Всадник враз остановил коня.
XI
Сугробы алели.
Афоня подходил к нездешней, райской земле. Он шел по облакам, по тучам.
Пастухи попадались, гнали овец, шерсть на овцах серебряная. «Куда?» — «Туда». А тут медведь с исправником в орлянку бьются. «Поддайся, мишка, я исправник». И Афоня: «Поддайся». Глядит: медведь знакомый, — в третьем годе валенки ему, Афоне, подшил. «Маши крыльями, маши!» — кричит орел. «А скоро?» — «Бог даст, к вечеру».
Поля, поля… Будто все выжжено. Саранчи много на нивы пало, надлетают, ударяют Афоню в лоб. Афонин лоб звенит, как колокол: ба-а-ам. Мир поет: «Радуйся, Афоня, великий чудотво-о-рец»! — «А я ведь земли-то, братцы, не нашел… Сугроб нашел». Тут его схватили, начали трясти, бить, ругать. «Пустите! Эй, посторонитесь!» — взрявкал медведь.
В это время стало так темно, так одиноко. Кой-где, кой-где огоньки.
XII
— Нишяво, нишяво, лежи…
Было тепло и чисто. На столе шумел самовар, горы белых лепешек с творогом, кринки, мед. Против Афони, свернув ноги калачиком, сидел на полу татарин в тюбетейке, ласково смотрел на него.
— Помогать надо друг дружке, жалеть надо.
— А где товарищ мой, Степан?
— Какой товарищ? Нету товарища.
Едва шевеля языком, Афоня объяснил.
— Яман дело… Совсем наплевать… Уж десять дней притащил тебя… Давно… Нишяво, нишяво, лежи. Мой пойдет искать. Соседа забирал, шабра, с ним пойдем. Яман дело.
— Он за меня душу положил. Степан-то мой, — проникновенно, горестно сказал Афоня. — Сам загинул, а я живой… Собака я. — Он прикрыл глаза ладонью и всхлипнул.
— Который за людей сдохла, эвот-эвот какой большой, шибко якши, — дружески сплюнул татарин. — Шибко хорош, ой, какой хорош!..
— Из-за меня он… Собака я… — замотал головой Афоня. — Сидеть бы мне, собаке, дома.
Татарин опять сплюнул и сказал:
— Земля шибко якши тут… А-яй, какой земля, самый хорош. Работать мало-мало можна, денга колотить можна.
Афоня слушал, то закрывая, то открывая глаза. Хотелось повалиться в ноги этому черномазому скуластому человеку, что спас ему жизнь, и плакать, плакать.
— Нишяво, ладно. Конь твой кидать надо, махан, мало-мало помрил, горлам резал. Двух коней тебе дам: все равно зверь, все равно ветер… Вот какой. На! Денга не надо… Помогать надо. Вот-вот.