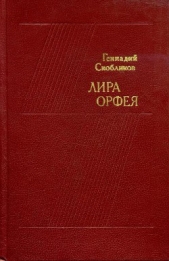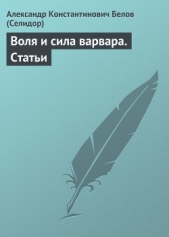Старослободские повести
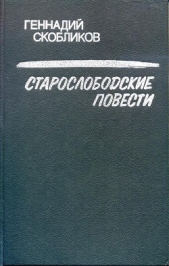
Старослободские повести читать книгу онлайн
В книгу вошли получившие признание читателей повести «Варвара Петровна» и «Наша старая хата», посвященные людям русской советской деревни. Судьба женщины-труженицы, судьба отдельной крестьянской семьи и непреходящая привязанность человека к своей «малой родине», вечная любовь наша к матери и глубинные истоки творчества человека — таково основное содержание этой книги.
Название «Старослободские повести» — от названия деревни Старая Слободка — родины автора и героев его повестей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вспомнится и та первая колхозная кузня. Обыкновенная землянка, и крыша земляная была, на ней чернобыльник рос. Да еще бегали по ней Мишкины кролики. Их, кроликов, у него тут много в норках жило: серые были, темно-коричневые, а больше всего — белые: сами белые, а глаза красные. Помнит, она всегда удивлялась этим их красным глазам, какими-то неправдоподобными казались они. Бывало, сидят эти белые кролики на крыше кузни, снуют губами по веткам чернобыльника, а глаза прозрачными малиновыми огоньками светятся. Все лето они тут дикарями жили, а Мишку не боялись. Тот, бывало, поднимется из кузни: кепка козырьком назад, лицо закопченное, одни зубы белые — и давай скликать их: «Кроль, кроль, кроль!..» Они и сбегаются к нему со всех сторон, из травы и кустов. Мишка то морковки им на колхозной усадьбе за базой надергает, то зеленого гороха или овса принесет — они и не отвыкали от него. А то, шельмец, увидит, что девки на речку мимо кузни идут, поймает крольчиху за уши, посадит ее к себе на руки, гладит и, бес, прямо в губы целует ее — их, девок, дразнит. Тот еще малый был, глаза и впрямь как у беса, недаром не она одна заглядывалась на него. А сама?.. Бывало, с речки идет и еще издали прислушивается, стучат или не стучат в кузне: там он, ее Мишка, или нет? Мимо кузни проходила медленно, все хотелось хоть на секунду в открытую дверь его увидать.
Сама тоже не последней девкой была, да и не в кого ей быть последней. Как говорила покойная соседка Никанориха — «у Варьки — кругом шестнадцать!» Кажется, с той поры, лет с пятнадцати, она и стала в зеркало на себя заглядываться. Да и пора подходила. Семилетку кончила, чтоб куда-то там ехать учиться, как теперь принято, и в голову не приходило, а больше о чем молодой девке думать! Днем работала, вечером гулянки. Красавицей она не слыла, покрасивей ее девки в деревне были; ну а пригожей вышла, ухоженной, и тело как яблоко наливалось. Отец уж и подшучивать стал: «Того гляди, накличешь сватов на нашу голову», — скажет в другой раз и смеется себе в усы, а у нее лицо огнем загорится. Мать напустится на отца: не стыдно, мол, она ребенок еще; а отец знай себе посмеивается: «Ты, — скажет, — меня не ругай, я тут ни при чем, а с зятем потом сама договаривайся: я ить Варюху в чужой дом не отдам, пусть он к нам...»
Первым провожатым у нее был Степка. Степан Сорокин — нынешний колхозный агроном. Почти год переглядывались они, она даже побаивалась, как бы он зимой и в самом деле сватов к ним не послал. Но Степкин отец, покойный Тимоха, решил тогда, что ему еще рано жениться: старший брат в холостых ходил. Зимой, когда вечерами у кого-нибудь собирались, Степан все к ней поближе подсаживался. А проводить только летом смелости хватило, да и тогда не знал, о чем говорить. Малый-то он тоже ничего, и одевал его Тимоха справно, — а какой-то несмелый, рохля, девки его губошлепым дразнили.
Она не отказывалась от ухаживания Степана, а сама на Мишку-кузнеца тайком заглядывалась. Этот, как лето от зимы, отличался от Степана. Смуглый, чуб из-под кепки, в глазах будто по веселому бесенку живут — в любую минуту готов расхохотаться. Этот никого не боялся: к любой девке подсядет, за плечи обнимет, зубы заговорит — и слов ему в ответ не найдешь. А гулять ни с одной не гулял. Был у него друг, Пашка-гармонист, они с ним и у себя на улице всегда вместе, и по другим деревням ходили, а гулять ни с кем не гуляли. Заглядывалась она на Мишку, да он-то, по правде сказать, не здорово замечал ее: не она одна заглядывалась.
Так вот и было: она поглядывает на Мишку, а провожать ее идет Степан. А днем, когда случалось проходить через базу, всегда тянуло пойти мимо кузни.
А один раз осмелилась-таки зайти к ним.
Было это перед обедом. Она одна шла с речки. Стояла жара, горячая дорога обжигала босые ноги. Из кузни доносился стук молотков, значит, не ушли еще обедать. И до сих пор не знает она, откуда тогда смелость взялась: свернула с дороги, спустилась по земляным ступенькам, остановилась у открытой двери и стала смотреть, как они работают, старый глухой кузнец Федор и Мишка, тогда он еще молотобойцем у Федора был. Они тогда и не заметили, как она подошла, ковали что-то. Старый Федор железными клещами какой-то раскаленный добела шкворень на наковальне поворачивал, а Мишка бил по нему молотом. До этого она ни разу не была в кузнице и думала, что тут должно быть жарко, а было как раз наоборот — прохладно после уличной жары и щекотало в носу от резкого запаха угля и окалины.
Не раз потом вспоминался ей этот новый для нее кисловатый запах кузни, голубое пламя горна (тогда в нем жгли древесный уголь, выжигавшийся тут же неподалеку в кустах: по нескольку дней кряду дымилась в дернике земляная куча), плоский кузнечный мех из сыромятной кожи, с длинной ручкой, подвешенной на веревке, деревянная лавка вдоль левой стены, где стояли и лежали всякие тиски, молотки, клещи и зубила, железная бочка с водой справа от наковальни, а в центре этого прохладного полумрака — раскаленное добела железо на наковальне и озаренные его малиновым светом потные лица Мишки и старого Федора. После-то, когда она уже была за Мишкой, она часто заходила сюда к нему. На базе ли, на току работали, с бакши ли шли или по другому какому делу приходилось ей проходить мимо кузни, свернет, бывало, сюда, сойдет по ступенькам вниз и стоит смотрит, пока они работу какую доделывают. Да и дочери, две старшие, перед войной часто сюда к отцу ходили: то она их пошлет наказать что-нибудь отцу, а то и сами самовольно уйдут. Он-то тогда уже сам кузнецом был. Как с образования колхоза пошел в кузню, так, пока на войну не взяли, ни разу и не менял он эту свою работу на какую-нибудь другую. И так привыкли они в семье к этой его кузне, что, хоть и колхозная она, а вроде как и своя для них стала. Отец тоже часто тут у зятя бывал. Он, как организовался колхоз, в конюхи пошел, любил лошадей, по целым дням тут на базе около них пропадал — и, как свободный, тоже, бывало, идет к Мишке. И вообще у него часто тут собирались мужики, кто на базе работал, особенно зимой: покурят да языки почешут. А Мишка-то брехать тоже нечего, позубоскалить любил: что молотом умел работать, что языком!
...— Ну, чего стала, иди мех покачай! — весело повелел ей тогда Мишка, продолжая стучать молотом. И ей ничего не оставалось, как пройти в дальний угол кузницы и качать мех.
На ней был тогда ситцевый сарафан, сама загорелая; сырая после купанья коса тяжело спускалась почти до пояса. Она шла с речки босиком по горячей дороге, и теперь земляной пол кузницы приятно охлаждал напеченные подошвы. Сильными руками она легко качала тугой мех и теперь могла сколько хотела смотреть на Мишку. Мишка работал в майке. Чуб, чтоб не мешал, спрятан под кепку. Лицо потное, блестящее. Ему явно нравилось на глазах у нее управляться молотом; а ей радостно было видеть его рядом. Вроде бы и ничего не произошло тогда в кузне: побыла минут двадцать и пошла домой, — а уже знала, что больше не пойдет со Степаном.
А потом, что-то дня через два или три, была Абала.
...Странный, смешной праздник. Кажется, только в трех-четырех деревнях и знают его. Да даже и не праздник это, а просто день такой, но ждали его всегда с нетерпением, особенно молодые. Днем, бывало, только и разговоров: не забыли — Абала нынче! А к вечеру ребята и девки рядились кто во что: чем не смешней — тем лучше. Ходили гурьбой по деревне, стучали в тазы и печные заслонки, на ходу сочиняли и пели разные смешные «нескладухи». Но самое интересное начиналось попозже, когда люди улягутся спать. Абала тем и интересна, что в эту ночь дозволено вытворять что угодно. До самого рассвета ходили ребята и девки от хаты к хате и тихо, чтоб не слышали хозяева, волокли со дворов все, что плохо прибрано. Лестницы, кадушки, мялки, корыта, лукошки, бревна, повозки — все, что попадалось под руки, что по силам, выносили или выкатывали со двора и складывали в кучи посреди улицы. Твоя ли, моя ли хата — никто не разбирал: наоборот, даже особый азарт появлялся, когда вводишь в свой двор и подсказываешь, где что можно взять. Хозяева, конечно, старались уследить, но ведь ночь есть ночь — уснут. И к утру по всей деревне стоят громоздкие пирамиды из лестниц и бревен, обложенные и обвешанные кадушками и мялками — поди разберись, где там чье. Ругань, брань, смех — но все это без злости, потому что старые в свое время то же самое вытворяли. А они, ребята и девки, наработавшись таким образом, перед зарей уходили всей гурьбой к речке — восход солнца встречать...