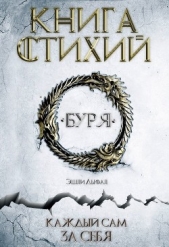Буря
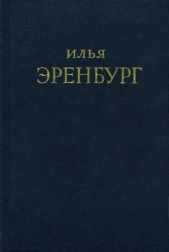
Буря читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Их было тридцать или сорок молодых женщин. Одна кричала: она была на последнем месяце, начались схватки. Солдат тупо бил ее по спине: «Молчи!» Офицер спросил: «Сколько?» Ему ответили: «Тридцать восемь».
В длинную комнату, куда их загнали, вошла госпожа фон Эхтбергер. Увидев ее лицо, распухшее от слез, Зина чуть не вскрикнула. Вышло!.. Госпожа фон Эхтбергер, всхлипывая, говорила: «Господи, зачем вы меня мучаете?.. Это простые бабы… Вы ничего не понимаете… Я пойду к полковнику…» Она хотела уйти и вдруг увидела Зину.
— Вам лучше назвать соучастников, — сказал капитан Гросс. Он старался не глядеть на Зину. Восемь лет тому назад в Меране он встретил девушку… У этой террористки такие же глаза…
Зина молчала; только ее губы шевелились, может быть, она повторяла «Боря»…
— Кто вас послал?
Она почувствовала необычайное волнение; ее как будто приподняли, она была высоко — над этим столом, над городом, кружилась голова; а слова шли сами собой.
— Кто меня послал? Все… Решительно все…
— Бросьте декламировать, вы не на сцене! Вас повесят, понимаете?
Он поглядел на нее и крикнул:
— И нечего так смотреть, вы не медиум, не выйдет! Отвечайте!! Имена соучастников?
— Я вам сказала, я не могу назвать всех. Я мало жила, их много… Вы слыхали про Сталина? Меня послал Сталин… Я знаю, вас разбили под Москвой. Я слышала по радио… Там был генерал Рокоссовский, генерал Говоров, я не помню всех имен… Они тоже меня послали… Вы повесили Горенко и Диму Шварца. Они не знали, что я его убью. Вы их повесили раньше… Но они меня послали, это правда…
— Вы из той же группы, что Шварц и Горенко?
— Да, из той же.
— Кто еще в этой группе?
— Я вам сказала — все. Боря…
— Настоящее имя? Адрес? Где он сейчас?
— В лесу. Убивает вас. Он из той же группы, я говорю правду… Нас очень много — народ…
Гросс крикнул:
— Карл, заберите ее! С ней нужно поговорить по-другому. Эта тварь прикидывается сумасшедшей…
Была одна страшная минута, когда Зина почувствовала, что не может больше молчать. Жгли грудь… Она крикнула: «Мой!.. Мой!..» И уже не было слов, только крик.
Она лежала на липком полу, лицо было в крови. Ее облили водой. Гросс сказал: «Сделай ей маникюр»…
Теперь она молчала.
Потом капитан Гросс распекал Карла: «Я вас отправлю в штрафной батальон»… Карл понимал, что виноват; но в ту минуту он вышел из себя — эта девчонка смеет после всего улыбаться!.. Судорогу он принял за улыбку. Он ударил Зину прикладом по голове.
— Полковник нас всех отдаст под суд. Ничего не узнать!.. И потом какое же это наказание? она не успела ничего почувствовать…
Полковника побаивались, и капитан Гросс скрыл от него, что преступница умерла во время допроса. Он доложил:
— От нее ничего нельзя добиться, кроме общих фраз. Сейчас она валяется в припадке эпилепсии…
— Ее необходимо повесить, — сказал полковник, — дело не только в наказании, но в воспитательном значении подобных мер…
Гросс приказал одеть мертвую. Карл смыл с лица девушки кровь. Рот Зины был искривлен, закушена губа. Теперь и капитану Гроссу показалось, что она улыбается…
— Это безобразие! Уберите рот…
Зину, как живую, повели под руки к виселице; ее ноги еще раз коснулись милой земли.
Капитан Гросс писал своему брату в Брюссель:
«Ты отдаленно не можешь себе представить нашего образа жизни. Нам приходится иметь дело с чудовищами. Террористка, которая убила майора, улыбалась чуть ли не в петле. Проклятая страна!»
27
Март был морозным, с частыми вьюгами; намело много снега. Казалось, город непробудно спит, прикрытый стеганым одеялом. Но старухи прибирали в домах к пасхе. Иногда кто-нибудь вздыхал: скоро весна… О весне думали с надеждой и с тревогой. Раненые говорили: «Весной обязательно начнется»… Кто начнет — мы или немцы, этого не знали ни жители маленького города, ни люди, приезжавшие с фронта.
По радио передавали, что идут бои, большие потери и у противника, и у нас. При слове «потери» сжималось сердце. Письмоносцы шли с драгоценной нощей по скользким обледеневшим улицам, по рыхлому снегу дворов и палисадников. Их поджидали возле калиток, выбегали навстречу. Иногда старик Федотов протягивал крохотный треугольник, и, будь то в метель, мир становился ясным, спокойным; чаще Федотов бормотал: «Напишет. Потерпи…»
«Потерпи» — это говорили шопотом, об этом писали страстные, бестолковые письма, этим жили. Осенью многим казалось, что так не может продолжаться, налетело внезапно и сразу кончится… Теперь все понимали, что война надолго, нужно с нею жить — с черной тарелкой, которая изрыгает страшные слова, с одиночеством, с вечной тревогой — вдруг письмо вернется «выбыл из части»…
В городе было много эвакуированных; они вносили в будни лихорадку узловых станций. Ленинградцы бредили Невским, говорили непонятное слово «дистрофия»… Киевляне ходили, как лунатики; им мерещились горбатые улицы, по которым ступают немцы.
Доктор Сабанеев как-то сказал Наташе: «Это — просвечивание рентгеном, теперь видно, что у человека внутри — сердце или побрякушка…» Наташа часто спрашивала себя: неужели у меня побрякушка? Нужно не думать о себе, тогда выдержу…
Всю зиму она проработала в госпитале. Она так привыкла к ранам, что они казались ей естественными; были упрямые, гноившиеся; она с ними воевала, накладывала перевязки, заставляла закрываться, срастись. Раненых она помнила не по именам, не по лицам, а по ранам. «Можно подумать, что вы этим делом двадцать лет занимаетесь», — говорил доктор Сабанеев. Он спросил, собирается ли Наташа изучать медицину; она удивилась: «Что вы! Я тимирязевка… Это только теперь… Война…» Если бы ей сказали рыть окопы или изготовлять гильзы, она делала бы это с такой же страстью и с таким же ощущением чего-то временного, исключительного — война…
Она с изумлением глядела на свой живот: как странно, что теперь можно родить ребенка! Ведь это что-то очень мирное, вечное… А теперь и жизни нет, война все перевернула. Только природа не хочет ни с чем считаться. Скоро весна… Это не от разума, не от сердца. Природа — как мороз или оттепель…
Никогда Наташа не заговаривала о Васе. На все запросы приходил тот же ответ: в списках убитых, раненых и пропавших без вести не значится. Сначала она удивлялась: пропал, а пишут, что нет… Когда ее спрашивали, отвечала: «Не знаю»… В глубине души она верила, что Вася жив. Может быть, он у партизан? Он не любит писать, послал три или четыре письма, а они затерялись… Бывают контузии, когда частичная потеря памяти — забыл адрес… Не могли его убить!.. Часто она писала Васе и прятала письма в сундучке под бельем.
Когда становилось невмоготу, она перечитывала письма отца. Дмитрий Алексеевич писал редко, но обстоятельно; шутя как-то приписал: «От вашего спецкора». Было в его посланиях столько бодрости, что Наташа успокаивалась. Еще в феврале отец писал:
«Эти жеребчики пронеслись рысью до Медыни. Жаль, не было здесь американца, о котором я вам писал, он ведь думал, что немцы будут встречать Новый год у нас в Чистом переулке. А я убежден, что рано или поздно придется поглядеть на Унтер-ден-Линден, не то чтобы очень меня туда тянуло, но поглядеть придется. Ты, Наташа, не горюй, в лесах много окруженцев, недавно пробилась целая часть, так что еще ничего неизвестно. А жеребчикам нами не править, это ясно…»
Наташа подружилась с Клавой Медведевой, студенткой пединститута, которая работала на эвакуированном заводе. Клава походила на птичку — маленькая, зябкая, хохолок на голове и поет… Ее муж Егор был летчиком. Клава показывала Наташе письма, фотографии. Егор молодой, выглядит куда моложе Васи. Наверно, очень смелый — четыре ордена. По письмам видно, что любит Клаву… Наташа знала, как они познакомились, рассорились, потом поженились. Егор описывал бои, и Наташа спрашивала: «Что это значит — пристроился в хвост?» Клава отвечала: «Сама не знаю. Наверно, так нужно…»