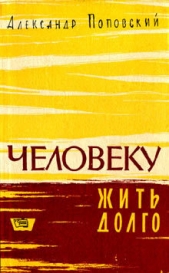Повесть о несодеянном преступлении. Повесть о жизни и смерти. Профессор Студенцов

Повесть о несодеянном преступлении. Повесть о жизни и смерти. Профессор Студенцов читать книгу онлайн
Александр Поповский — один из старейших наших писателей.
Читатель знает его и как романиста, и как автора научно–художественного жанра.
Настоящий сборник знакомит нас лишь с одной из сторон творчества литератора — с его повестями о науке.
Тема каждой из этих трех повестей актуальна, вряд ли кого она может оставить равнодушным.
В «Повести о несодеянном преступлении» рассказывается о новейших открытиях терапии.
«Повесть о жизни и смерти» посвящена борьбе ученых за продление человеческой жизни.
В «Профессоре Студенцове» автор затрагивает проблемы лечения рака.
Три повести о медицине… Писателя волнуют прежде всего люди — их характеры и судьбы. Александр Поповский не умеет оставаться беспристрастным наблюдателем, и все эти повести построены на острых конфликтах.
В сборнике ведется серьезный разговор о жизни, о нашей позиции в ней, о нашем мироощущении.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По мере того как грустное признание переходило в предостережение, звучание его голоса восходило от печальных тонов до высокой взволнованной ноты.
На короткое время наступила тишина. Каждый словно хотел своим торжественным молчанием присоеди–ниться к призыву ученого. Тем неожиданней прозвучали слова ординатора Николая Николаевича Сухова:
— Неужели, Яков Гаврилович, так уж важно, какая пойдет о Пас слава и что подумают досужие сплетники? Исполнив свой долг перед собственной совестью, мы можем, как мне кажется, быть спокойными. Нам нужно и впредь вскрывать наши ошибки, говорить о них четко и громко. Не считать себя счастливыми, когда нас похвалили или поставили в пример другим, и несчастными, когда кто–то обнаружил нашу слабость.
Опять этот Сухов! Ни такта, ни сдержанности, в какой уж раз он выскакивает со своими высказываниями, не всегда зрелыми, не очень глубокими. Напрасно поспешили выбрать его секретарем партийной организации. Лицо профессора выражает досаду, он укоризненно качает головой, грозит шалуну пальцем и все–таки ему улыбается.
— Не можете быть спокойным! — запретительным и в то же время предостерегающим тоном произносит Яков Гаврилович. — От голоса народа нам некуда деться, от правды никуда не уйти. Нас должно интересовать, что о нас думают и сильные и слабые, и друзья и враги. Меня занимает, например, какого обо мне мнения наши санитары и санитарки, сестры и врачи. Мне не лень ради этого задержаться порой, чтоб подслушать чужую беседу. Судите, казните, а я не пройду мимо. Привелось мне на днях услышать мнение моей домашней работницы. «Понимаешь, Аннушка, — рассказывает она прислуге соседа. — К столу его близко не подходи, бумажек и книг не трогай, перекладывать не смей, а увидит пылинку — разъярится. Тем его не корми, он в весе прибавит. Поправится — плохо, не так сваришь — беда, а найдет на скатерти пятнышко — хоть из дома беги».
Прежде чем кто–либо успел сообразить, как отнестись к неожиданному признанию профессора, принимать ли это всерьез или считать шуткой, он деловым тоном продолжает:
— «Самое трудное, Аннушка, его обрядить. Каждый день другой галстук, а всего их у него сорок штук, свежую рубаху, их тоже не счесть, а с костюмом одно несчастье: выгладишь такой, а ему подай другой, принесешь другой — подай ему третий, не человек, а мучитель».
Теперь все смеялись. Аудитория высоко расценила и дикцию и исполнение актера. Ничего лишнего: ни в жестикуляции, ни в мимике, ни в модуляции голоса. Никому не пришло в голову, что исполнитель сам и автор сочинения, разыгранного экспромтом.
— Наши дежурки, — с той же серьезностью говорит Яков Гаврилович, — как вы знаете, служат чем–то вроде школы злословия; там судачат, оговаривают, никому спуску не дадут. Слышу как–то разговор — одна из сестер таким манером живописует меня: «Какой он важный, серьезный, ну прямо китайский богдыхан. Не ходит, а шествует, не говорит, а вразумляет, не смотрит, а взирает. Ногу поставит, словно мостовую облагодетельствовал: нате, мол, смотрите, какой я…»
Позабавив своих помощников, ученый не забыл цели своего повествования, он вновь повторил им, как важно руководствоваться общественным мнением. Нельзя полагаться только на голос собственной совести, это все–таки голос одиночки, ему не устоять против мнения законного большинства.
Беседа окончилась, и сотрудники расходились. Слышались смех, веселые шутки, все запомнили чудесную импровизацию профессора и позабыли его назидания. Большой кабинет опустел, замолкли голоса, и сразу же в окна ворвались уличный шум и приглушенный грохот трамвая.
— Николай Николаевич, — обратился директор к уходившему последним ординатору Сухову, — позвольте вас задержать на минутку.
Молодой человек приблизился к столу, но не сел. Он все еще находился под впечатлением своего выступления, послужившего поводом для веселых рассказов и шуток профессора. Его щеки пылали от возбуждения, и маленький выдающийся подбородок время от времени вздрагивал.
— Я хотел поговорить о вашей диссертации, — сказал ученый, ласковым жестом приглашая его сесть. — Не нравится мне ваша тема, не привлекает она меня. С моим мнением вы, конечно, можете не соглашаться, ваша совесть, как известно, — ваш высший судья, — намекая на его выступление, продолжал Студенцов, — но предупредить вас мой долг. Не сойдемся ли мы с вами на чем–нибудь другом?
Чтобы дать молодому человеку время подумать, профессор раскрыл первую попавшуюся книгу и, скользнув глазами по странице, не упустил случая мельком взглянуть на ординатора. Лицо молодого человека оставалось непроницаемым.
— Вы хотите в своей диссертации доказать, что раковые больные, оперированные под местной анестезией, выздоравливают быстрей, чем те, которых до операции усыпляли. Значит, и мы, широко применяя наркоз, оказываем раковому больному дурную услугу. За что, позвольте узнать, такая обида?
Протянутые вперед руки и скорбная улыбка напоминали списанного с олеографии доброго гения, удерживающего ребенка на краю пропасти.
К такой осторожности и подкупающей мягкости Якова Гавриловича вынуждали некоторые серьезные причины. Николаю Николаевичу Сухову шел двадцать шестой год; любимец прежнего директора, он болезненно перенес смерть учителя и встретил приход Студенцова с нескрываемой враждебностью. Было и нечто такое в характере ординатора, чего директор всячески избегал. У Сухова был звучный, резковатый голос, и с какой бы низкой ноты он ни начинал, разговор мог завершиться на верхнем регистре. Невинное слово могло настроить его на решительный лад. Смущенный или обиженный, он опускал голову и поднимал ее лишь затем, чтобы от защиты перейти к нападению. Даже в непроницаемом выражении его лица было что–то напоминающее затаенную обиду.
— Зачем же мне дали эту тему? — начал раздражаться молодой человек. — Ведь я на ней не настаивал.
— И мы не настаивали. Александр Васильевич Крыжановский, мой блестящий предшественник на этом посту, счел эту тему интересной. Откажитесь от нее, бог с ней, — с гримасой отвращения, с какой дети отворачиваются от нелюбимой игрушки, произнес он. — Мы дадим вам другую, материалом поможем, поддержим вас на защите. Вдумайтесь хорошенько, — звучал предостерегающий голос, — потрудившись вдоволь в операционной, в секционной на трупах, вы не достигнете совершенства в хирургии. Вместо того чтобы совершенствовать нашу науку, вы будете изучать одну лишь ее частность. И наркоз и анестезия еще не хирургия.
Голос снизился до шепота, но не утратил своей притягательной силы:
— Послушайтесь моего совета, у вас не будет оснований жалеть. Мы сделаем из вашей диссертации монографию, и рядом с вашей подписью я охотно поставлю свою.
Улыбка Студенцова как бы говорила: «Будьте благоразумны, на вас обрушилось счастье, сумейте использовать его».
— Я потратил столько труда, — нерешительно произнес ординатор, — составил аннотацию к научной теме, разработал и описал методы исследования клинические и лабораторные, нашел общий язык с научным руководителем Степановым Иваном Ильичом. Я мечтал помочь тем, которых мы вынуждены подвергать операции. Найти правильное решение…
— Кто из нас не мечтал, — не дал ему профессор докончить, — кому не приходилось расставаться с дорогой и желанной надеждой! Я вас понимаю, ведь и я в своем роде мечтатель. И не только мечтатель — фантазер! Послушайтесь бывалого человека, отбросьте иллюзии, бегите от них! Ни за что в жизни мы так жестоко не платимся, как за иллюзии, и чем позже наступает отрезвление, тем суровей ответ.
В этот момент нельзя было не проникнуться к нему расположением. Добротой сияло его лицо с обнадеживающим и ласковым взглядом, отеческим теплом веяло от руки, протянувшейся через стол и, казалось, готовой любовно потрепать упрямую голову молодого человека.
Некоторое время лицо Сухова оставалось непроницаемым, затем он мотнул головой, словно стряхивая непрошеную ласку, и его маленький, резко выгнутый подбородок дрогнул.
— Вы недавно лишь говорили, что глубоко уважаете взгляды Крыжзновского на операционный наркоз и только скрепя сердце усыпляете больных.