Овраги
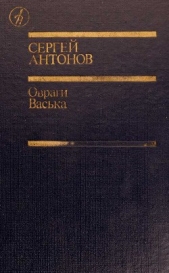
Овраги читать книгу онлайн
Книгу известного советского писателя Сергея Антонова составили две повести — «Овраги» и «Васька». Повесть «Овраги» охватывает период коллективизации. «Васька» — строительство Московского метро. Обе повести объединяют одни герои. Если в повести «Овраги» они еще дети, то в «Ваське» это взрослые самостоятельные молодые люди. Их жизненные позиции, характеры, отношение к окружающему миру помогают лучше и глубже понять то историческое время, в которое героям пришлось жить и становиться личностями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мы идем генеральной линией партии, — сказал Роман Гаврилович. — Сталин утверждает: социалистический город может вести за собой мелкокрестьянскую деревню не иначе, как насаждая в деревне колхозы и совхозы и преобразуя деревню на новый, социалистический лад.
— Вот-вот, — подхватил адъютант, — Ленин призывает рабочих идти вместе с крестьянской массой, а вы тащите деревню за собой. Ленин советует начинать с того, что крестьянину понятно и знакомо, а вы требуете насаждать колхозы. Потому-то Емельян и поставил вопросительный знак.
— Начетчик, — презрительно усмехнулся Роман Гаврилович. — Ленин говорил в двадцать втором году. А у нас на дворе тридцатый.
— Это не важно. Разница между трудовым состоянием рабочего и крестьянина и сегодня та же, что и в двадцать втором году. Любая ошибка в перестройке крестьянского производства, любой просчет в перестройке его потрясают жизнь крестьянской семьи сверху донизу, приносят не только протори и убытки, не только разруху и семейные неурядицы, но в первую очередь физическое истребление людей. Здесь можно ошибиться один раз, от силы — два раза, но выдюжит ли двужильный русский мужик десять переделок? Вот в чем вопрос. Машину десять раз переделать можно, а живого мужика — нельзя.
— Мужик, значит, не выдюжит, а рабочий выдюжит?
— Рабочий выдюжит. Выдюжит, потому что ни авария, ни перестройка цеха не коснется его бытового уклада. Рабочий отработает восемь часов и выйдет за заводской турникет в другую, вольную, неслужебную жизнь. А у крестьянина труд и быт нераздельны. Крестьянская семья в одно и то же время и бытовая ячейка, и цельный, единый трудовой организм. Все члены семьи чуть не с пеленок трудятся. Жизнь крестьянина не делится ни на недели, ни на пятидневки. Его жизнь — непрерывный, целенаправленный трудовой рабочий день. Крестьянская семья — все равно что бригада на заводе. Уведите со двора корову, и весь уклад семьи, и трудовой, и бытовой, полетит вверх тормашками. Корова для крестьянина не только машина, производящая молоко, а полноправный, иногда самый необходимый член семейного организма.
— Эх ты, горе-теоретик! — Роман Гаврилович рассмеялся. — Выходит, корова — родня мужику? Кума? Племянница?
Что адъютант ответил, да и вообще ответил ли что-нибудь, никому не известно, Роман Гаврилович смеялся…
Откопали его через трое суток, когда мятежи в районе были ликвидированы, а спецотряды вернулись на свои зимние квартиры.
Роман Гаврилович сидел, скорчившись, и на мраморном лице его навечно заморозилась улыбка.
ГЛАВА 24
СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ
Мятеж был ликвидирован быстро. В Хороводах арестовали Дувановых и шестерых поджигателей. Среди них оказались две старухи богомолки. Из Сядемок увезли семью Кабановых и Тимоху Вострякова. На другой день поймали Горюхина и учителя Евгения Ларионовича. Петра Алехина не нашли.
Занятия в школе временно прекратились, и Митя вышел прогуляться по присмиревшей улице.
Первый после смуты мирный день выдался ярким, праздничным. Снег блестел. Весело горланили воробьи.
Ворота Кабановых были отворены настежь. Во дворе хозяйничала Манька Вавкина, кидала в сани кизяк. Набросан полный воз, а ей все было мало.
— Может, пособить? — шутливо приветствовал ее Митя. — Только хозяев взяли, а ты уж тут как тут.
Манька испуганно уставилась на него.
— Пришьют тебе сто седьмую статью! — продол жал Митя. — Тогда узнаешь.
Она все так же, словно немая, смотрела на него.
— Ладно! — Митя немного смутился. — Никому не скажу. Себе?
— Парамоновне… — наконец проговорила Манька. — Пошехонов приказал…
— Куда ей столько?
Она испугалась еще сильней.
— Ты чего?
Она подумала и спросила:
— Ты не знаешь?
— Нет, — Митя насторожился. — А что?
— Тетя Катерина не говорила?
— Нет, — ему становилось страшно. — А что?
— Ногу! — словно обрадовавшись, закричала Манька заступившей вожжу кобыле. — А ну, зараза! Ногу!..
— Что случилось? — крикнул ей Митя.
— Отвяжись! Катерину спроси!.. — она стукнула лошадь. — Ногу!..
Митя бросился домой.
Катерина сидела простоволосая, лохматая, как ведьма. Митя вошел, она его не услышала. Не спуская глаз с граненого стаканчика, мерно покачивалась и шептала что-то похожее на молитву. «Уж не с ума ли сошла», — подумал Митя и крикнул:
— Тетя Катя! Где папа?
Она подняла налитые слезой глаза и простонала словно из-под глыбы:
— Здесь он, Митенька, здесь Роман Гаврилович, на тебя глядит… Витает душа его возле нас, Митенька…
Катерина шелестела губами все быстрей и бессвязней, и из ее шелеста становилось ясно, что прежнего папы нет и никогда не будет, что душа его проживет дома, а после того станет летать по воздуху, прощаться с Сядемкой, а на сороковой день вознесется высоко-высоко, в другой, горний, мир, где нет ни скорбей, ни воздыханий.
— А покуда душа усопшего обитает возле нас, — шептала Катерина, — надо привечать ее по отчему обычаю, потчевать винцом да хлебцем.
С этими словами она поставила граненый стакан с первачом на божничку, а рядом положила кусочек хлебца.
— Скажи, тетя Катя, — проговорил Митя. — Папу убили? Скажи правду. Я не буду плакать.
— Нет, Митенька. Никто его не убивал. Застыл он. В дороге застыл.
— Его закопали?
— Нет еще, Митенька. Завтра.
— Где он?
— У Парамоновны. Там его обмоют, соберут, сделают все, как надо. Ты куда!
Догнать Митю она не смогла. Он изо всех сил перебежал овраг и бросился к Парамоновне. Издали было видно, что у нее из трубы валит дым.
В сени его не допустил участковый. Митя кинулся через хлев. Задняя дверь была замкнута. Утопая в сугробах и падая, он побежал вдоль окон. Через заледенелые стекла ничего видно не было. Запыхавшись, он сел на завалинку. Голова его кружилась.
Из дому вышли Пошехонов и Шишов. Под мышкой у Шишова, словно градусник, торчал аршин с метками.
— А я тебе, Герасим Никитич, повторяю, — спокойно втолковывал Пошехонов, — не завтра, а сегодня к вечеру. Брось все дела и сколоти. Окажи уважение.
— Вот я и хочу не тяп-ляп, а в порядке уважения, — возражал Шишов. — Чтобы в аккурат по росту. А как ты его замеришь, когда он скрюченный.
— Пока досточки заготовишь, разморозим. Тогда и замеришь. Приступай, Герасим Никитыч.
— А как будем рассчитываться-то?..
— Колхоз не обидит. Давай приступай.
— Больно ты быстрый, Ефимушка. Легко ли разморозить. Не цыпленок.
— Не твоя забота. Ты досточки добывай.
Мужики вышли на дорогу. Митя потянулся следом.
Он все пытался покрепче ухватить отрывочные фразы, расставить их по порядку. Но слова рассыпались, перепутывались, превращались в бессмысленную труху. Возле спуска Пошехонов попрощался с Шишовым и побежал на конюшню. Митя понял только то, что желал понять: папа жив. Если бы он погиб, разве могли бы живые люди беседовать так спокойно, беспечно.
Он заспешил поделиться с Катериной своей радостью. По пути шаги его стали замедляться. Постепенно ему стала понятной страшная суть разговора. И, войдя в горницу, он спросил:
— Тетя Катя, а если разморозить, он может ожить?
Потом потянулись дни, от которых остались смутные, отрывочные воспоминания.
Долго помнился серый день похорон. Народа было мало. На кладбище сгоняли силком, как на колхозное собрание. Палкой в окна стучали. У гроба говорили кто о чем: о головокружении от успехов, о том, что весна дурная — днем греет, а ночью мороз. Земля трескается, рвет корешки озимых. Кому-то показалось, что яма коротка. Стали спорить, мерить лопатой гроб, ругаться. Одни только бабки-рыдальщицы стояли, как положено, сбившись в кучку. Да Катерина машинально смахивала снег с покойника. Как только Пошехонов приступил к прощальной речи, вынырнул Данилушка и принялся кричать:
— Охрана труда, где ты? Ни одного пуда частнику!
Вавкин погнался было за юродивым, однако у него отцепилась красная повязка, и Данилушка развеселился еще пуще.
























