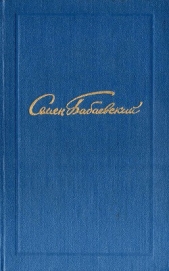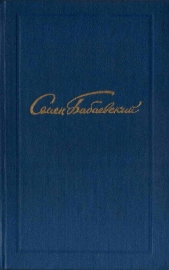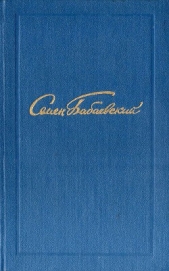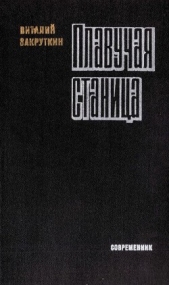Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 5
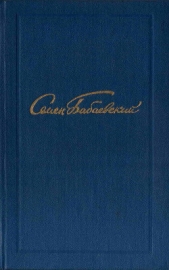
Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 5 читать книгу онлайн
В романе «Станица» изображена современная кубанская станица, судьбы ее коренных жителей — и тех, кто остается на своей родной земле и делается агрономом, механизатором, руководителем колхоза, и тех, кто уезжает в город и становится архитектором, музыкантом, журналистом. Писатель стремится как бы запечатлеть живой поток жизни, те радикальные перемены, которые происходят на селе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ваня, я тебя ждала.
— Это зачем же? Или хочешь сообщить мне что-нибудь хорошее?
— Хочу… Только не знаю, как… Просьба к тебе, Ваня.
— Какая?
— Пойдем ко мне. Дома я одна. Отец и мать уехали на хутор Извещательный, к родичам. Вернутся только завтра… Пойдем, а? Ну, что так смотришь? Я приглашаю тебя в гости. Давненько мы не бывали вместе… Ну, согласен, Ваня? Я никогда еще не просила тебя так, как прошу сейчас.
Иван смотрел на взволнованное, пристыженное лицо Нины и молчал.
«А что, и пойду! — подумал он, покраснев щеками. — Вот он, сам подвернулся, удобный случай, чтобы доказать Валентине, что я могу обойтись и без нее. Она укатила не спросясь в Предгорную, а я без ее ведома пойду к Нине в гости. Вот мы и квиты! Да и приглашает-то не кто-нибудь, а моя прелестная соседка»…
— Ниночка, золотце мое, как я рад, что вижу тебя.
— Зачем же так — «золотце мое»?
— Что, разве забыла, как я тебя называл?
— Признаться, забыла… Так придешь в гости?
— Приду. Только я голодный, как волк! Накормишь пахаря?
— Ваня, о чем печалишься? Да и как тебе не стыдно об этом спрашивать? Для тебя, Ваня, все у меня есть… Пойдем!
— Иди, а я поставлю мотоцикл и сейчас же явлюсь.
— Я подожду тебя возле калитки.
— Мне же надо сменить хлеборобское одеяние и умыться.
— Умоешься у меня, я согрею воду.
После ужина Нина, не в силах скрыть свою радость, с пылающим лицом несмело обняла Ивана, прижимаясь к его колючему подбородку своей мягкой, горячей щекой. Он не отвел рук, только удивленно посмотрел на ее полные ласки глаза.
— Ваня, оставайся у меня.
— Не могу.
— Ее боишься? Ну, сознайся, боишься?
— Я не из пужливых.
— Значит, останешься? Думаешь, мне легко говорить то, что не я тебе, а ты мне должен был сказать, а я, видишь, говорю и не краснею.
Она встала, отошла и смотрела на него как на чужого.
— Что с тобой случилось, Иван?
— А что?
— Неужели забыл тот вечер на берегу Кубани и плеск воды у наших ног? Ты целовал меня и клялся…
— Помню, очень хорошо помню… Но то было детство, оно ушло, и тот вечер вернуть уже невозможно.
— А если захотеть?
— Не так-то все это просто, Нина.
— Понимаю, это она встала между нами… Ты ее любишь?
— Да, люблю.
— Не будет у тебя с нею счастья!
— Почему?
— Разные вы. Кто ты и кто она? Ну, чего сидишь? Уходи! — вдруг крикнула она. — И не бойся, следом не побегу…
Так ничего у него и не вышло из намерения доказать Валентине, что он может жить и без нее. «Стыдно и обидно, обидно и стыдно, — думал он. — И зачем я пошел, не надо было мне ни встречаться с нею, ни тем более идти к ней»… И он впервые ощутил холодок, прильнувший к груди страх и какое-то обостренное чувство тоски. Ему казалось, что, если бы Валентина была рядом с ним, он успокоился бы. И вот тогда он решил, не раздумывая и не мешкая, привезти ее и сына в Холмогорскую. С Барсуковым и главврачом договорился о ее работе. В свободный от смены день попросил у Петра мотоцикл с люлькой (люлька — удобное место для Андрюшки!) и прикатил в Предгорную, когда сумерки, густея и навалом спускаясь с гор, уже укрыли станицу.
На другой день он привез Валентину в Холмогорскую, правда, одну, без сына (сердобольная бабушка наотрез отказалась отдать внука). Но и после того, как они зарегистрировались и стали жить не в хате стариков Андроновых, а у брата Петра, желанный покой к Ивану так и не пришел.
По длинному, пахнущему лекарством коридору Иван, сопровождаемый санитаркой, шел тем твердым шагом, каким обычно ходят люди, неожиданно попавшие в непривычную для них обстановку.
— Молодой человек, ты подожди, — сказала санитарка. — А я схожу к больной, узнаю, может, она тут с тобой повидается.
Это был небольшой холл. Низкий треугольный столик, два плетенных из лозы кресла. Иван сел в кресло, рядом с ним до потолка поднимался фикус с темными, шириной в две ладони листьями; рос он в пузатой, стянутой обручами кадке. Не успел Иван подумать о своей встрече с Клавой, которую не видел, наверное, лет десять, как к нему приблизилась старая, незнакомая ему женщина в больничном, путавшемся в худых ногах халате.
Он встал и пожал ее маленькую, слабую руку, чувствуя в своей загрубевшей ладони высохшие пальцы; смотрел на ее лицо — нет, не исхудавшее, а какое-то увядшее, обескровленное, с прочно залегшими у губ морщинками; видел потухшие глаза, не узнавал Клаву, удивляясь и мысленно говоря себе: да нет же, не может быть, это не она! И молчал, потому что не знал, что и как сказать, и сознаться ли, что не узнал ее, или не сознаться.
Они присели на жалобно скрипнувшие кресла, и Клава, глядя на толстые листья фикуса и будто бы видя их впервые, с вымученной улыбкой спросила:
— Ты не узнал меня, Ваня?
— Ты же в больничной одежде… и давно мы не виделись.
— Да, давненько, это верно. И за это время я сильно изменилась… Я уже не могу смотреть в зеркало.
— Как теперь себя чувствуешь, Клава?
— Нечем похвалиться, нечем… Погубила я свое здоровье…
— Что говорят врачи?
— Стараются… Такие они все внимательные, так им хочется меня подлечить. — Клава снова так же через силу и так же невесело улыбнулась. — Не будем говорить обо мне… Ваня, я хотела сказать о том, что у вас с Валентиной Яковлевной нету жилья. Переселяйтесь в наш дом и живите. Дом хороший, просторный… и пустой.
— Как же ты?
— Я туда уже не вернусь.
— А дети?
— Они еще малые.
— Что слышно о Никите?
— Меня он не интересует. — Клава снова смотрела на висевший перед ее глазами лист фикуса. — Можете переезжать хоть сегодня.
— Спасибо, Клава.
— Не за что благодарить, переезжайте и живите. — Клава глубоко вздохнула, морщинки у ее губ сузились и углубились. — Вы счастливые, я рада за вас. Но вы, как те перелетные птицы, не имеете своего гнезда.
— Это гнездо брата Никиты.
— Никиты нету.
— Эх, братуха, какой же ты дурак!
— Сгинул Никита, — сказала Клава тихим, совсем безучастным голосом. — И никто о нем ничего не знает.
— Клава, есть еще перелетные птицы, они тоже без своего гнезда.
— Кто?
— Тракторист из нашего отряда и мой тезка Иван Нестеренко. Недавно парень женился, а жить негде.
— Пусть и Иван Нестеренко поселяется с молодой женой. Вместе вам будет веселее.
— Так я скажу Ивану. Со смены я вернусь через два дня, и мы сразу переберемся.
Домой Иван не заехал, спешил сменить Петра. Над полями давно уже загустела ночь, одноглазый прожектор мотоцикла кидался то в одну, то в другую сторону, силился пронзить стеной встававшую тьму. Иван направлял колеса по глубокой колее и всю дорогу думал о Клаве, видел ее схваченный морщинками рот, ее нерадостные, о чем-то своем думающие глаза. Мотоцикл трещал на всю степь, и вместе с его стреляющими звуками Иван слышал тихие слова: «Сгинул Никита… И никто о нем ничего не знает»…
12
Нет, Никита Андронов не сгинул и не исчез бесследно. Однако и узнать о том, где он находился, что с ним и жив ли он, вот уже больше месяца в самом деле никто не мог.
Что же произошло тогда, на берегу Кубани, в то раннее утро?
Никита спустился с подвесного моста, ушел в лес и укрылся там в непролазных карагачевых зарослях. Лежал в высокой примятой траве, как волк в кубле, боялся пошевельнуться, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Вспорхнет ли птица над головой, покачнув ветку, прошмыгнет ли в траве ящерица, и Никита вздрагивал. Он уже отрезвел, хмель давно выветрился из головы, и острое, еще не осмысленное сознание того, что в жизни у него случилось что-то страшное, угнетало и пугало Никиту. Болело, ныло сердце, и щемила исцарапанная при падении щека, кровь засохла и стягивала кожу.
Откуда-то появилась муха, удивительно проворная, сизого оттенка, величиной с пчелу, и, кружась и жужжа, липла к окровавленной скуле. Никита сломал ветку, отмахивался ею, пугая муху. Вспомнил, как еще в детстве царапины на его теле мать лечила подорожником. Он отыскал продолговатый, со светлыми прожилками лист, помял его в ладонях и приложил к ссадине, чувствуя от листа прохладу. Потом он прикрыл лист картузом и лег. Ему стало легче, рана перестала болеть, да и муха куда-то исчезла, и он задремал. И тут же, может, через минуту или две вздрогнул, как от сильной тряски, и проснулся. Лег на спину, вытянул онемевшие в коленях ноги, смотрел на затейливое сплетение веток и веточек, сквозь них, как сквозь зеленое кружево, видел далекое синее-синее небо, и на глаза ему наплывали обидные слезы. Еще не зная, куда податься, что предпринять, он никак не решался покинуть свое укрытие и пролежал в нем, мучимый голодом и жаждой, до вечера.