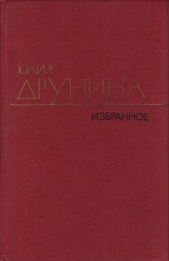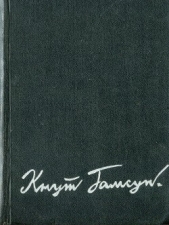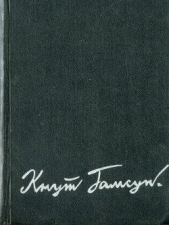Избранные произведения в трех томах. Том 1

Избранные произведения в трех томах. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том включены два широко известных романа: "Товарищ агроном" о жизни послевоенной колхозной деревни и "Журбины", посвященный рабочему классу. В нем рассказывается о рабочей династии кораблестроителей, о людях, вся жизнь которых связана с заводом, в реконструкции которого они принимают активное участие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То, что у них будет электрический свет, подымало воскресенцев в собственных глазах. Большинство из них не совсем реально представляло себе, что практически принесет колхозу электричество, но сам этот факт — в Воскресенском динамо–машина — ставил жителей лесного села в один ряд с колхозниками передовых областей страны: не лыком шиты!
Как только Павел Дремов узнал о движке, он пришел к председателю, бросил шапку на стол, встал в хрестоматийную позу Бонапарта, засунув пальцы за отворот куртки, и не сказал, а гаркнул во все горло:
— Точка! Хватит! Хватит слушать: все работы почетны. Пусть другие навозом развлекаются. Я специалист по ремонту!
— Чего ты орешь? — Антон Иванович поднял на него спокойный взгляд. — Мне агроном так и сказал: Дремова на ремонт.
— Агроном?
— Ага.
— А… ну ладно. — Сразу притихший, Павел побежал к Карпу Гурьевичу.
У Карпа Гурьевича во дворе стояло странное сооружение, похожее на железнодорожный вагон прошлого века, обшитое узким тесом, с железной округлой крышей; маленькие оконца с переплетами крест–накрест. В нем хранился лишний в доме хлам, жили куры, которых развела приемная дочка Карпа Гурьевича Леночка. Сооружение обросло кустами бузины, на проржавевшей крыше торчали пучки сухого овса. А когда–то оно наделало в селе шуму не меньше, чем деревянный бычок и подводный понтон. Задумав жениться на красавице своей Стеше, Карп Гурьевич, Карпуха тогда, задумался и о жилье. В отцовскую избу молодуху вести не хотелось, мечтания были о своей отдельной жизни, а средств поднять новую избу не предвиделось. Да и по молодости лет стремления были иные — не сидеть на месте, пойти побродить по белу свету. За землю молодой столяр не держался. Выход ему подсказал проезжий цирк, который остановился в усадьбе Шредера. У циркачей был пестрый, разрисованный масками, обклеенный афишами фургон. Был он легкий, на рессорах, тянули его две мелкорослые лошадки с подстриженными коротко хвостами. Карп Гурьевич поглядел на него и принялся строить такой же. Кони — как–нибудь; сперва фургон, благо руки свои. Но одно дело — проехать от городка к городку, от селения к селению, подвезти загадочный цирковой скарб. Другое дело — ездить и постоянно жить в фургоне, зимой ли, осенью, в вёдро или ненастье. Нужны прочные, не пропускающие холода стены, нужна печка, нужны кровать, стол, словом, все, что есть в избе и без чего человеческая жизнь не мыслится. День за днем, неделя за неделей улучшал, совершенствовал свое будущее передвижное жилище молодой Карпуха. Отец только вздыхал, ходил вокруг него. Но и не порицал сына — сам был фантазер. «Ладно, — рассуждал он. — Коней нет — будет жить в фургоне, как в избе. Кони заведутся — неужто их никогда не приобрести! — поедет счастья искать». Старый друг отца — колесных дел мастер — соорудил для фургона могучие дубовые колеса со спицами в медвежью лапу толщиной и в высоту — по грудь человеку.
Наступил день испытания. Любопытствующих баб в фургон набилось, ахают там, охают, диву даются. Затопили печку. Мужики, которые поисправней, тоже любопытства ради, привели пару коней. Впрягли. Натужились кони, натянули жилы, уперлись ногами в землю — только вздохнули по–лошадиному, не стронулся Карпухин дом с места. Еще двух коней впрягли, качнулся фургон, под бабий визг проехал сажень — кони в мыле.
Надвязывали постромки, входя в азарт, воскресенцы, сами за колеса хватались. И выяснилось в конце концов, что лишь восемь лошадей способны были тащить невиданную избу, да и то скоро выбились из сил.
Загоревали оба, и сын и отец, поставили фургон во дворе на высокие чурбаки, — колеса продали лесопромышленнику — бревна возить — и деньги с горя пропили. Так и доживал свой век в бузине один из многих плодов Карпухиной молодой фантазии.
Вспомнил Карп Гурьевич о фургоне, когда из города привезли на машине заржавленный старый движок. И Павел одобрил: лучшего помещения для мастерской не найдешь. Выселили кур, повыбрасывали хлам, верстак с тисками поставили. Принялись разбирать двигатель на части. Павел не соврал — хоть и по верхностные, но понятия о моторах у него были. А кроме того, в библиотеке Карпа Гурьевича нашлась объемистая книга — «Двигатели внутреннего сгорания». Сидели над ней вдвоем, ничего не смыслили в формулах, ссорились из–за них и все надежды возлагали на чертежи. В чтении чертежей руководящая роль была за Карпом Гурьевичем.
Лаврентьев, заходя в мастерскую, досадовал на то, что ничем не может помочь мастерам. В институте читался курс механизации сельского хозяйства, говорилось там и о двигателях, но куце все это говорилось и куце читалось, без практических занятий, — так называемое «общее, знакомство», которое никому ничего не дает.
Самозваные мастера вручную шлифовали поршневые кольца, притирали клапаны. Антон Иванович забегал, спрашивал:
— К двадцать третьему будет? Он хотел, чтобы к празднику Советской Армии движок застучал и зажглась хотя бы одна лампочка. Задумываясь вначале о полутора тысячах, председатель готов был теперь и пятнадцать израсходовать, лишь бы не остановиться на полпути, лишь бы заработало сердце колхоза, как он образно окрестил двигатель. Он сам ездил в город — на лесопилку, в сельхозснаб, толкался в райисполкоме, достал небольшую динамо–машину, правдами и неправдами закупал медную проволоку, изоляторы, заблаговременно выхлопотал лимит на горючее: плотники у него отесывали столбы, мазали их комли вязкой, пахучей смолой.
— Неужто к двадцать третьему не будет? — тревожился он.
— Постараемся, Антон Иванович. Из кожи вон, — отвечал Павел, смахивая пот со лба; в мастерской жарко топилась печка — Карп Гурьевич не терпел холода.
Сам Карп Гурьевич отмалчивался, сопел носом, орудуя непривычной для его рук драчевой пилой.
— Петр Дементьевич! — часто восклицала в эти дни Ирина Аркадьевна. — Как это великолепно — свет! Я люблю деревню, привыкла, сроднилась с ней, но как всегда угнетал мрак! Ах, как он угнетал, особенно в первые годы моей жизни здесь. Не в детские, конечно, годы, а после возвращения из столиц и театров. Сидишь во мраке — думаешь о прошлом, о безвозвратно потерянном.
Катя давно уехала, Ирину Аркадьевну ничто не держало дома. И она делила свое свободное время между посещениями Людмилы Кирилловны и беседами с Лаврентьевым. Лаврентьев, после того как узнал историю Прониной, переменил свое отношение к ней, стеснения при встречах не чувствовал. Он делал скидку на некоторые старомодности в манерах и в словах Ирины Аркадьевны и видел теперь в ней вполне советского человека, которого горячо интересует жизнь страны. Хоть краем, бочком, но она прикоснулась к истокам этой жизни в далекие, неведомые нынешнему поколению годы, своими глазами видела ее зарождение, разговаривала, жила в общих землянках, ела из одного котелка с солдатами революции.
Ирина Аркадьевна умела рассказывать о людях, окружавших ее Виктора. Почти каждый вечер заходила она к Лаврентьеву посидеть часок–другой и однажды стала невольной свидетельницей его встречи с Елизаветой Степановной.
Елизавета Степановна пришла с мороза раскрасневшаяся и оторопела в дверях: никак не ожидала, что, кроме нее, будет тут кто–то третий, — с глазу на глаз хотела поговорить с Петенькой. С Дарьей Васильевной поговорила, с Антоном Ивановичем, теперь Петенькино слово ей понадобилось. Антон Иванович не был строг. «Ничего, обойдется», — сказал он. А Дарья Васильевна накинулась: «Вкривь и вкось идет у нас дело, Елизавета. Друг друга подводим. Чего таилась, зачем скрытничала? Нехорошо. За Лаврентьева не хлопочи, человек он крепкий. О себе подумай».
Елизавета Степановна целый день думала. Пришла, — готова была в ноги Петеньке поклониться: прости, мол, навредничала. На грех тут эта Пронина случилась. Но отступать было поздно.
— Петр Дементьевич, я по делу…
— Знаю, по какому. Не стόит, Елизавета Степановна, расстраиваться. — Он улыбнулся, видя, в каком замешательстве старшая Звонкая, как крутит и рвет она концы своего платка. — Присаживайтесь. Спасибо вам…