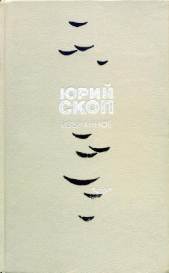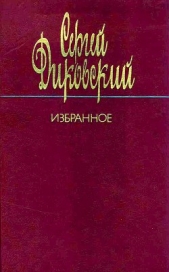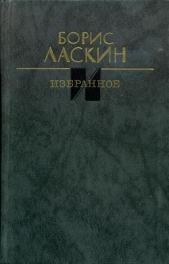Избранное
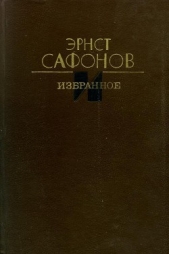
Избранное читать книгу онлайн
В книгу известного писателя Э. Сафонова вошли повести и рассказы, в которых автор как бы прослеживает жизнь целого поколения — детей войны. С первой автобиографической повести «В нашем доне фашист» в книге развертывается панорама непростых судеб «простых» людей — наших современников. Они действуют по совести, порою совершая ошибки, но в конечном счете убеждаясь в своей изначальной, дарованной им родной землей правоте, незыблемости высоких нравственных понятий, таких, как патриотизм, верность долгу, человеческой природе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Дмитрий Сергеич, — попросил председатель, — дам сейчас человека — займитесь, если можно, осмотром нашего производства, так сказать… А я должен подготовиться — мероприятие сегодня проводим. А после уж тут!..
— Конечно… ради бога! — воскликнул Дмитрий. — Я один готов. Прогуляюсь, подышу…
— Что вы!.. Минутку!
Председатель постучал точеным кулачком в стену, на этот стук просунулось в дверь чье-то неопределенное серое лицо и тут же, получив указание разыскать Зою Васильевну, скрылось. А Зоя Васильевна находилась, вероятно, в этом же помещении, пришла сразу — кареглазая девушка лет двадцати с небольшим, коротенькая фигурой, обтянутая шерстяным свитером, в лыжной шапочке с пушистым помпоном и ужасно деловая по виду: хмурила бровки до морщинок на переносье, губы поджала, спросила строго у Агапкина:
— В чем дело, Степан Игнатьич?
— Большое дело, — ответил председатель; и Дмитрию пояснил: — Заведующая библиотекой… Зоя Васильевна. — И, подумав, добавил: — Наш культурный кадр.
— В чем же дело? — нетерпеливо переспросила девушка и посмотрела на Дмитрия так, словно бы сказала: вы, разумеется, приезжий, из начальства какого-нибудь, однако и мы себе цену знаем…
— Вот, Зоя Васильевна, — председатель вежливо показал на Дмитрия, — посетивший нас товарищ имеет тоже отношение к культуре — писатель!
Зоя Васильевна вспыхнула, вздрогнули изображения круторогих оленей на ее неприметной груди, протянула Дмитрию узенькую потную ладошку.
Быстрая Зоя Васильевна вырывалась вперед, оглядывалась: не сильно ли отстает писатель, мелькали перед глазами Дмитрия ее коротенькие тугие ножки в подшитых валенках. Кивал успокаивающе: я тут, поспеваю…
Сводила Зоя Васильевна на свиноферму, после на МТФ (молочнотоварную); еще в холодное кирпичное здание с закопченными стенами, где ремонтировали трактор, — показывала, знакомила с людьми, не утрачивая прежней озабоченности на раскрасневшемся личике.
На свиноферме Дмитрия поразила свирепая, «толстомясая», смахивающая на бегемота свинья — свиноматка по кличке Диана; прошлой ночью недоглядели, и Диана сожрала все свое потомство — тут же, как только поросята вышли из нее… А у доярок, когда к ним заглянули, была послеобеденная передышка — пели они, славно пели: «…Поутру рано на заре стоят кони во дворе…» Но застеснялись женщины чужого человека, сломали старую песню; и Дмитрий, выйдя с Зоей Васильевной наружу, сказал:
— Прошу, Зоя Васильевна, миленькая, не надо меня так пышно представлять — совестно как-то… Работают все, а мы праздные… не мы, вернее, я!
Зоя Васильевна дернула плечиком — не ответила ничего. А он нечаянно, когда она не ожидала, заглянул в ее глаза и подивился: сколько грусти-то в них! Это как прикрытие — внешняя сердитость, нахмуренность; тут другое, по глазам видно — глубокое, когда ожидаются или уже коснулись сердца печали, когда тихо и тайно несешь, будто тяжкий крест, какое-то горе… «Не ошибаюсь, наверно, — подумал Дмитрий, — и как же неспокойно призван жить каждый человек; и вот этой маленькой Зое в этих снегах, глухом бездорожье достались свои беды, а она бежит, будто колобок катится, и верит, как все мы, в лучший завтрашний день…»
В ремонтной мастерской пять-шесть механизаторов, переругиваясь, вроде это помогало им в трудном занятии, «раздевали» трактор. Дмитрий окончательно почувствовал ненужность, ложность своего «экскурсионного» обхода хозяйственных служб — был он лишним и холодным среди разгоряченных работой людей; они понимали, что он имеет право ходить вот так, с портфелем в руках, в чистом пальто, спрашивать их о чем-то, и, отвлекаясь от дела, отвечали ему с терпеливой вежливостью. Пробежал мимо старик с мотками ржавой проволоки, сказал громко: «Как бы не замазать, гражданин, посторонитесь!..» Дмитрий спрятал в карман приготовленную было для общего курения пачку сигарет, пошел к выходу… А догнавшей его Зое Васильевне сказал, не сумев скрыть нервозности:
— Что запланировано дальше?
— Вы устали, конечно, — ответила она, — пойдем ко мне в библиотеку. Там тепло и книги.
…Они идут по искрящемуся снегу — она опять немножко впереди, словно заманивает туда, куда ему вовсе и не нужно, — и навстречу из-за угла избы вываливается тракторист Гриша, переодетый в полупальто-«москвичку», с ярким мохеровым шарфом вокруг шеи и в прежней заношенной солдатской шапчонке, не соответствующей всему его «выходному» виду.
— Гуляем! — кричит он с наигранной удалью. — Приветик!
И сует Дмитрию руку, как будто бы не два-три часа назад они расстались.
— Зой, — не говорит, выкрикивает вновь Гриша, — Зой, подь на минутку! Слово скажу.
— Что еще, — морщится она, — выпил?
— Не подносили, — смеется Гриша, смотрит на Дмитрия, подмигивает. И Зое снова: — На одно слово, слышь!
— Отстань.
— Зой!!!
— Я догоню вас, — она кивает Дмитрию.
Он медленно уходит от них, слышит, как гневным полушепотом она отчитывает Гришу, а тот отвечает: «Серьезно… ей-богу!»
«Мороз и солнце, день чудесный!..» — просится на язык пушкинское; нет недавнего горьковатого осадка на душе — жизнь хороша, и жить хорошо! Он утверждается в мысли, что нужно тут побыть не сутки-другие — с неделю, не меньше. Тут наверняка отыщется то, что даст ему заряд для последующего сидения за письменным столом, наполнит его необходимой жадностью: писать днем, ночью писать, страдая оттого, что приходится из-за каких-нибудь пустяков отрываться от захватившей его работы… Но вспоминает он Клавдию, что сказала ему она у поезда — вспоминает, хмыкает, сердится; клянет он себя за ненаходчивость, за жалкую позу там, возле нее; успокаивает себя, что детству и юности суждено оставаться такими, какими они были, а сейчас все по-иному — и у него, и у Клавдии; и говорил же ему Гриша, что неплохо ей сейчас, и мальчик хоть чужой, но есть, и муж есть… А у него, Дмитрия, если так, по-человечески сравнить — ни мальчика, ни жены… Он смотрит на разрисованные морозом оконные стекла, ему кажется, что здесь в любом доме незримо присутствует его былая жизнь — та, в которой жила еще ласковая бабушка, неустанно тикали дореволюционные ходики, в расписных горшочках стояли цветы на подоконниках и вечерами в плите полыхали березовые и осиновые чурки, можно было посидеть у живого огня, послушать, как он поет, тревожно и сладко помечтать о дальних краях, знакомых девочках, непрочитанных книгах… Когда он, повзрослев, распрощался со всем этим — не было уже возврата к прежнему, да и не хотел возвращаться, и если бы не нынешняя неожиданная и странная его командировка — когда б он сюда выбрался! Может, никогда…
Догнала Зоя Васильевна, еще больше нахмуренная; спросил ее:
— А любите свой поселок?
— Родину надо любить, — ответила она не задумываясь, вся в себе — под впечатлением, наверно, разговора с Гришей.
— Нет, Зоя Васильевна, не вообще… Вам лично хорошо здесь?
«Как нахохленный воробышек, — подумал тут же, — и зовут ее по-дурацки, полным именем… Зоенька она, Зоя… Красивого в ней нет и росточек подвел, однако и не безобразная… Может, Гриша домогается ее, а может, и есть она та подружка, о которой он поминал…»
Повторил, улыбаясь:
— Как же, Зоя Васильевна?
— Зовите меня Зоей, — сказала она, будто угадав, о чем он думал. — Это Агапкин… он всех по имени-отчеству… даже школьников.
— Как же, Зоя?
— Извините, мне не нравится ваш вопрос.
— Почему?
— Я честно скажу…
— Ради всех святых!
— …глупый вопрос! Не обижаетесь?
— Нет, отчего ж.
— Не стоит, по-моему, интересоваться тем, без чего вы можете обойтись. Вам же все равно: люблю — не люблю… А где любовь, известно, там и ненависть — так?
Дмитрий сказал «да», про себя ж отметил: «А востра, черт возьми, девка — смотри-ка!..» Обмели они веником ноги, вновь вошли в знакомое уже Дмитрию здание — в контору колхозного правления: библиотека размещалась тут, в самом дальнем по коридору кабинетике.