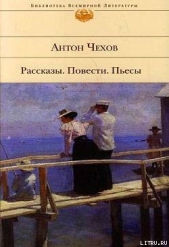Степан Кольчугин. Книга первая

Степан Кольчугин. Книга первая читать книгу онлайн
В романе «Степан Кольчугин»(1940) Василий Гроссман стремится показать, как сложились, как сформировались те вожаки рабочего класса и крестьянства, которые повели за собою народные массы в октябре 1917 года на штурм Зимнего дворца, находясь во главе восставшего народа, свергли власть помещичьего и буржуазного классов и взяли на себя руководство страною. Откуда вышли эти люди, как выросли они в атмосфере неслыханно жестокого угнетения при царизме, попирания всех человеческих прав? Как пробились они к знанию, выработали четкие убеждения, организовались? В чем черпали силу и мужество? Становление С. Кольчугина как большевика изображено В. Гроссманом с необычной реалистической последовательностью, как естественно развивающийся жизненный путь. В образе Степана нет никакой романтизации и героизации.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И в самом деле, Поле нравилось говорить людям неприятные вещи, подмечать в них смешные стороны и подозревать их лишь в дурных поступках и недостойных побуждениях. Когда мать рассказывала, что у одних знакомых ребенок заболел на даче дифтеритом и ночью начал задыхаться и что старуха няня единственная не растерялась, пробежала восемь верст до города и привела врача, Поля сказала:
— Что тут особенного? Если б ребенок умер, она бы потеряла место, вот она и бежала, чтобы сохранить службу.
Услышав такое суждение, Софья Андреевна испуганно проговорила:
— Серденько, так тебе же только пятнадцать лет…
Зимой Поля часто болела ангинами. Мать говорила ей:
— Откуда ты такая гнилушка? Форточку открыть в третьей комнате, а ты уже готова.
От постоянных ангин у нее появился порок сердца и случались припадки, холодели руки и ноги. Поля относилась равнодушно к своим болезням, не боялась смерти и, приходя в себя после припадка, вяло зевала и точно сожалела, что вернулась к жизни. И, несмотря на невыносимый, капризный характер, в ней имелось нечто, заставлявшее людей, близко знавших ее, восхищаться ею: то ли это был ум, самостоятельный и дерзкий («Настоящая мужская голова», — говорила Анна Михайловна), то ли высокий строй детски чистой души. Все интересы ее состояли в чтении книг. Читала она очень много, почти исключительно беллетристику; испытывала презрение к тайным увлечениям своих одноклассниц Чарской, Желиховской, Лукашевич, старших девиц — Арцыбашевым. Она читала Толстого, Мольера, Байрона, «Божественную комедию», ей нравилась проза Гейне, а современных писателей — Гусева, Оренбургского, Винниченко, Леонида Андреева, которыми все зачитывались, она не любила. Больше всего Поля не любила в людях доброты; но Сергею казалось, что она сама беспомощно добра, а добродушный, готовый на услуги и жертвы Гриша, наоборот, часто выглядел жестоким и равнодушным к людям.
Вечером Сергея повели знакомиться с Софьей Андреевной и жильцами.
В комнате Софьи Андреевны на стенах висели портреты Некрасова, Шевченко, Мицкевича, Максима Горького. На столе шумел медный самовар с вмятым боком и толстой нашлепкой у основания крана.
Знакомясь с Сергеем, Софья Андреевна пожала ему руку мягкой, теплой рукой и сказала:
— Я вашего отца знаю. Это ж прекрасный человек, Чеховский земский врач, настоящий друг нашего бедного народа.
Сергей покашлял, смутился и ничего не ответил. После он слышал, как Софья Андреевна сказала тетке:
— Какой чудный юноша, юный Вертер… Вот такие шли на виселицу за народную волю.
За столом сидели почти все жильцы Софьи Андреевны. Знакомясь с ними, Сергей краснел, говорил осипшим голосом и обрадовался, когда прерванный его приходом разговор вернулся к прежним предметам. Софья Андреевна посадила Сергея рядом с собой и, угощая его пирогами с капустой, тихо рассказывала, как перед 1905 годом у нее собирался конспиративный социал-демократический комитет и голодные комитетчики съедали целые горы пирогов с капустой и как приехавший из Петербурга член Цека, познакомившись с ней, сказал: «Ваши пироги теперь знамениты по всей России, я о них слышал и в Туле и в Петербурге».
Потом она рассказала, что пятнадцать лет тому назад у нее скрывался знаменитый революционер, которому угрожала казнь.
За столом говорили о предстоящем театральном сезоне, концертах, о приезде царя и Столыпина в Киев, о назревшем еврейском погроме, о деле Бейлиса. Красавец Стах стоял в толпе на Безаковской улице и видел, как проезжал с вокзала царь со свитой.
— Блондинчик как блондинчик, — говорил он, — сидит и ручкой делает, а кричали довольно-таки жидко.
— Я тоже видел, — смеясь, сказал студент-политехник Воронец. — Рядом со мной стояла баба одна, торговка с Галицкого базара. Должно быть, она какого-то чернобородого великана за царя приняла — как завопит: «Вот он, вот он! — точно вора уличала: — Держите его, люди добрые!»
— «А цареву дочку в саму голивочку…» — пропел Лобода.
— Вам бы, Мыкола, актером быть, а не на юридическом, сказала Доминика Федоровна, ширококостая женщина с большим подбородком и мясистым носом.
— А вам вэтэрынаром, а не фельдшерицей, — подражая ее басу, ответил Лобода.
Его начали упрашивать декламировать стихи, и он вышел на середину комнаты, расставил ноги, потрогал себя за чуб и начал читать мягким, тихим голосом, нараспев, глядя на носки своих сапог:
Он прервал чтение, постоял немного молча и затем сказал равнодушным, разговорным голосом, поводя плечами:
И вдруг по лицу его прошла судорога, угол верхней губы задергался, обнажая зубы, и, полный неподдельной ярости, уже не декламируя, он закричал, подняв кулак:
И, тяжело переводя дыхание, тихо сказал:
— Ох, не однаково мэни!..
Он сейчас же сел на тахту и вытер рукой лоб. Все зашумели, выражая одобрение.
— Скажэный темперамент у тэбэ, сэрдэнько… — восхищенно сказала Софья Андреевна.
— А кто эти злые люди, хотелось бы мне знать? — спросил Гриша и взъерошил волосы.
— Ну, начинается переливание из пустого в порожнее, — сердито сказала Анна Михайловна. — Зачем спорить, если ваши мнения — как день и ночь.
Лобода смотрел на Гришу и молчал.
— Эти люди — и украинские терещенко, грушевские, и еврейские бродские, и русские коковцевы, и столыпины. Вот кто они, — назидательно проговорил Гриша, не дождавшись ответа.
— И они, но не только они, — спокойно сказал Лобода.
— Значит, и я и мама?
Лобода прищурился и махнул рукой.
— Годи, годи, — морщась, сказала Софья Андреевна. — Давайтэ заспиваемо, — и трогательным, дребезжащим голосом затянула:
Все бывшие в комнате сразу подхватили:
Сергей невольно подивился слаженности хора. Но удивительного в этом ничего не было: уже долгие годы жильцы Софьи Андреевны собирались вечерами и пели украинские песни.
Пели красиво, грустно, протяжно, иногда так тихо, что слышно было, как шумит самовар, иногда с такой силой! что воробьи перелетали с веток над открытыми окнами на вершину дерева, удивленно и недоверчиво поглядывая вниз. Пели без отдыха и едва заканчивали одну песню, как начинали другую. Спели «Три крыныченьки», потом старинную «Ой вэрба, вэрба, дэ ты зросла», потом «Ой, у поли тай жнэци жнуть», «Солнце нызэнько», потом «Ой вэрнэться щэ литэчко, ой вэрнэться вэсна».
И чем больше пели, тем милей становились для Сергея его новые знакомые. Все они казались людьми умными, добрыми, интеллигентными, и у Сергея было чувство, что он всех их давно знает, привык к ним, любит их: и раскрасневшуюся круглоглазую Галю Соколовскую, и седую Софью Андреевну, и красивого Стаха, и басовитую, решительную фельдшерицу Доминику Федоровну, коверкавшую украинские слова — она произносила их по-нижегородски, на «о», — и даже Лободу, вначале показавшегося фанатично-узким, а сейчас с улыбкой, полузакрыв глаза, по-детски старательно выводившего: