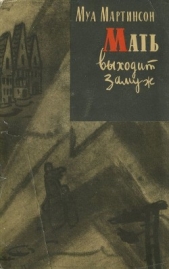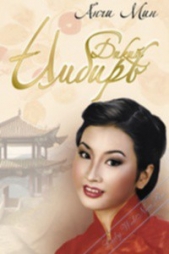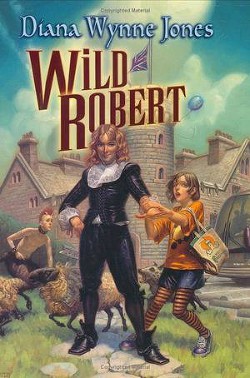Дикий хмель
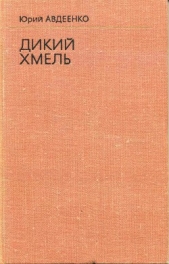
Дикий хмель читать книгу онлайн
Действие нового романа Юрия Авдеенко происходит в наши дни в Москве. В центре повествования — образ молодой работницы обувной фабрики Натальи Мироновой. Автору удалось создать лирическое, отмеченное доброй улыбкой произведение о судьбах молодых рабочих, о взаимоотношениях в трудовом коллективе, о радостях и сложностях в молодой семье
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Думаешь, я не смогла бы перехитрить Широкого? — распалялась Закурдаева. — А мне по морде ему дать захотелось. По морде! Я это и сделала.
— Но ведь и сдачи дать могут, — пыталась я вразумить Люську.
— Боялась я сдачи! Страсть как боялась! Да я рабочая, я же не начальник. За свое место не трясусь. Я завтра подам на увольнение. Сколько в Москве обувных фабрик! Меня на любую с руками и ногами возьмут. А если я в отделе кадров еще газеты покажу, где про мой показатели, про мою бригаду писали, то ко мне делегации от фабрик домой приходить будут, обивать пороги, чтобы я к ним работать пошла. Твой же Широкий, которого ты с пеной у рта защищаешь, дерьмо. Может, как специалист — туда-сюда, средненький. А как человек — дерьмо!
— Я не защищаю Широкого с пеной у рта. И ругалась с ним больше, чем ты. Сама знаешь... И я первая была против того, чтобы тебя снимали с бригады, и предлагала обсудить за это Широкого на бюро. Но уж если ты сделала глупость, то имей смелость признаться в ней. Допустим, что Широкий — дерьмо, но своим идиотским поступком ты расписалась в том, что ничуть не лучше его.
— И пусть! И пусть! — твердила Закурдаева.
Платон Пантелеевич подал голос:
— Все, сороки? Люська, достань бутыль.
И вновь, как восемь лет назад, появилась плетеная бутыль, доверху наполненная красным виноградным вином. И мне вспомнился Туапсе, сарай под железной крышей, осенние листья, стучавшие о старое железо, словно капли дождя. И стало грустно, остро грустно, как никогда. Кажется, впервые ощутила, что ухожу из молодости насовсем. И насовсем однажды днем или ночью уйду из жизни...
Люська принесла стаканы. Это были не те простые граненые стаканы, а очень красивые, тонкие, из чешского стекла. Но, как и тогда, Платон Пантелеевич налил вино всклянь. И мы выпили. С хорошим, хорошим удовольствием.
— Из груши коньяк не сделали? — вспомнила наш давний разговор и спросила я.
— Не пришлось. На зверобое теперь настаиваю. Зверобой — он, сказывают, от всех болезней...
Через день Люська написала заявление на имя директора фабрики. В заявлении сообщала, что «пошутила над Широким в отместку за злое и несправедливое отношение». Луцкий объявил Закурдаевой выговор, мотивировав его нарушением трудовой дисциплины. И приказал лишить месячной прогрессивки.
С Широким был разговор на парткоме. Всыпали ему не меньше, чем Бурову. Георгий Зосимович барабанил по столу пальцами. Румянец накатывался на его щеки бурными морскими волнами...
«Натали! Дорогая моя!
Очень сочувствую тебе и разделяю твое горе, такое понятное, хотя я никогда не разводилась с мужем. Да я и не выйду замуж. Очень мне нужно тратить на чепуху нервные клетки, которые, как считает наука, не восстанавливаются.
Мне тоже последнее время было не сладко. Адам, из-за которого я едва не завалила сессию, оказался женатым и вдобавок отцом двоих детей. Но это не самое главное. Его приводит в священный трепет любая мало-мальски смазливая мордочка. С таким темпераментом ему следовало родиться мусульманином, которым коран разрешает иметь четырех жен и сколько угодно наложниц.
Жду тебя в Польше. Приезжай. Вдвоем нам будет не так тоскливо.
Вечером неожиданно пришла Полина Исааковна. За годы она располнела еще больше, и прихожая моя была ей тесна, как может быть тесно платье или халат. Ее руки поплыли в воздухе, малиновом от темного абажура, легли мне на плечи, удивительно теплые и мягкие. Мы обнялись. Полина Исааковна сказала:
— Я не знаю, куда это может годиться? Живем рядом и никак не увидимся.
— Спасибо, что нашли меня.
— Золото ищут, а друзья дороже золота...
Плащ шуршал, словно мнущаяся бумага, когда Полина Исааковна, переступая с ноги на ногу, снимала его.
— Ты зажги весь свет, — сказала она, войдя в комнату. — А я надену очки и посмотрю на тебя.
Я взмолилась:
— Не надо, Полина Исааковна. Я такая плохая.
— Нет, нет. Это неважно. Я должна убедиться сама. У меня такое правило.
Она вернулась в прихожую за очками и опять шуршала плащом, как ветер осенью шуршит листьями. В комнате было холодно, и тоска, будто пыль, пряталась по углам.
— Ну и что? — спросила Полина Исааковна. — Ну и что? Разве это плохо? Я спрашиваю, разве пять с минусом — это плохо?
Голос ее метался между полом и потолком, между стенами, оклеенными светло-зелеными обоями, независимый, самостоятельный, словно живой человек.
— Вы просто утешаете меня. Вы добрая.
— Я не утешаю тебя. И я совсем не добрая. Я говорю чистую правду. И мне легко это делать, потому что я горжусь тобой...
— Я сварю кофе. Хоть немного согреемся...
Она пошла за мной на кухню. И голос пошел тоже. Опережая ее и меня.
— Слышишь, иной раз мещане брюзжат, потому что, видите ли, в продаже нет красной и черной икры. Можно подумать, что икра — это хлеб и масло... А когда и где это было возможно, чтобы шестнадцатилетняя сирота меньше чем через десять лет стала инженером, уважаемым человеком, имела хорошую квартиру и жила в ней с любимым мужем...
— Нет любимого мужа, Полина Исааковна, — с виноватой улыбкой произнесла я.
— Скончался? — не переменившись в лице, спросила она.
— Почти что... Ушел добровольно.
— Не верю, чтобы нормальный мужчина мог добровольно уйти от такой женщины. Ты прости меня, деточка, но иногда мне казалось, что твой журналист был все-таки с приветом.
— У каждого свои странности.
— Пожалуй, ты права... Пожалуй, это примета времени... Могилку матери не забываешь? — спросила она, помолчав.
— Не забываю... Ездила в Астрахань. Там фронтовой друг отца отыскался. Привезла фотографии. Отцовский блокнот...
И то и другое показала, когда мы пили кофе. Она долго и пристально рассматривала листок дикого хмеля, желто-зеленый, неправильной, асимметричной формы. В общем-то, не очень красивый листок.
— Действительно, почему он оказался в блокноте старшины-разведчика, никогда не интересовавшегося ботаникой? Может, мать прислала его в конверте? Может, ты маленькой держала в руках этот листок, а потом мать положила его в письмо, как привет от дочки. Никто не знает этого. И теперь уже никогда не узнает. Тайна вечная...
Как обычно, Полина Исааковна говорила много и торопливо, словно опасаясь, что кто-нибудь придет сейчас и помешает нам. Я же, успевшая отвыкнуть от некогда мне очень знакомой манеры разговора, не всегда понимала ее. Кивала головой, быть может, невпопад...
— Лева. О тебе вспоминал Лева. Я сказала — у тебя хорошо. У тебя все очень хорошо. А, знаешь, что он сказал? Не догадываешься?
— Не догадываюсь.
— Лева сказал, что женщины с такими глазами никогда не пропадают.
— Лева — болтун.
— Это есть. Это у него с детства. Но он большой человек в министерстве. Может, ты хочешь в министерство?
— Я хочу кофе. Давайте выпьем еще по чашечке.
Полина Исааковна ушла около девяти. Я открыла дверь на балкон и смотрела на мокрую от мелкого, похожего на туман, дождя, Полярную улицу. Но осень была не только там, на улице Полярной. И в сердце был дождь, и желтые листья, и место для грусти...
Громко, протяжно задребезжал дверной звонок. Подумала, вернулась Полина Исааковна. Забыла свой зонтик или еще что-нибудь.
Торопливо прошла в прихожую. Сняла с двери цепочку.
На пороге стоял Луцкий с большим коричневым портфелем.
— Добрый вечер, Наталья Алексеевна. Принимайте гостя.
Я вспомнила его странный взгляд там, в кабинете. Порадовалась, что начинаю разбираться в людях. Хотелось захлопнуть дверь и повернуть ключ. Но я сказала:
— Прошу вас, Борис Борисович, заходите.
Он ступил через порог поспешно, словно споткнулся. В руке, которую он еще секунду назад прятал за спиной, снегом белели астры...