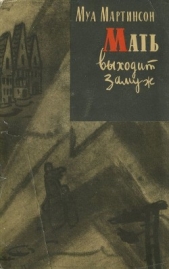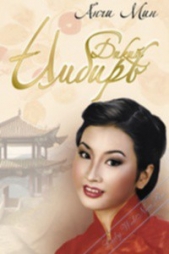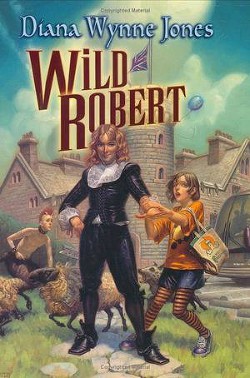Дикий хмель
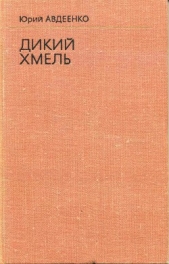
Дикий хмель читать книгу онлайн
Действие нового романа Юрия Авдеенко происходит в наши дни в Москве. В центре повествования — образ молодой работницы обувной фабрики Натальи Мироновой. Автору удалось создать лирическое, отмеченное доброй улыбкой произведение о судьбах молодых рабочих, о взаимоотношениях в трудовом коллективе, о радостях и сложностях в молодой семье
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Однажды я уже предлагал вам, — сказал Луцкий, стоя вполоборота к окну. — Пойдете начальником цеха?
— Вместо Широкого?
— Вместо Широкого.
— Но... Он хороший работник. Опытный.
— Хорошего, опытного работника мы всегда найдем где использовать.
— Нет, не пойду.
— И это отвечает коммунистка?
— Вы спрашиваете. Я отвечаю. Я имею право отвечать честно?
— Имеете.
— Тогда о чем разговор?
— Разговор о деле. О нашем общем с вами деле.
У него был совсем другой голос, чем у Бурова. Другой не только в смысле тембра. Даже очень интересные мысли Буров всегда высказывал однотонно, несколько тягуче, как посредственный лектор. Голос же Луцкого был насыщен разными тонами, словно радуга разноцветьем. Последнюю фразу он произнес почти дружески, интимно, она казалась неуместной для официальной кабинетной обстановки, но вместе с тем будто бы приподнимающей наш в общем-то сугубо производственный разговор до хорошего человеческого откровения.
Похоже говорила моя мама. Она произносила самые обыкновенные, много раз слышанные слова так, будто секунду назад их придумала: «Мыло серо, да моет бело».
А я не любила мыться с мылом. Мыло принимала за бедствие. И всегда, приведя меня к раковине на кухне, мама не забывала произнести эту нехитрую пословицу, которую я, конечно, помнила, но которая в устах мамы, вновь и вновь поражала меня своим звучанием, неожиданным, неповторяемым.
— Вы должны подумать над моим предложением, — это уже был иной Луцкий, деловой, расчетливый. Руководитель. — Виноват ли Широкий, нет ли — история с туфлями говорит о том, что он пересидел на должности начальника цеха.
— Надо выслушать его.
— Заслушаем на парткоме.
— Мне можно идти?
— Да, — сказал он.
Но, когда я встала и отодвинула стул, Луцкий вдруг поинтересовался:
— Куда все-таки уехал ваш супруг?
— Не знаю. Он адреса не оставил.
Луцкий как-то странно, словно вдруг именно сейчас ему пришла неожиданная мысль, чем-то связанная со мною, посмотрел на меня. Спросил мягко и, до испуга, участливо:
— Тоскливо?
— Невесело, — призналась я, хотя еще секунду назад и не думала, не гадала откровенничать с директором про свое личное.
— Все так знакомо... Сам уже восемь лет один. Придешь домой... И порой хоть лезь на стену, — Луцкий грустно улыбнулся, покачал головой.
— Так... я пошла, — произнесла почему-то нерешительно.
— Да, да... Всего доброго, Наталья Алексеевна, — точно очнувшись, обычным директорским тоном сказал он.
По дороге в цех, когда я шла тихими коридорами административного корпуса, фабричным двором, где даже осень не могла выветрить запаха кожи, лестницами с обкрошенными ступеньками, я все время думала о том, кто же так зло и неумно мог подшутить над Широким и почему Луцкий, кажется, рад этому. Впрочем, последнее можно объяснить так: директор недоволен работой начальников цехов. Несколько раз он высказывался в этом духе на парткоме. Он считал, что начальники всех цехов без исключения недостаточно серьезно относятся к научной организации труда, что повышение производительности труда порой достигается лишь за счет работы в субботние дни, работы полуподпольной, потому что она не оформляется приказом по фабрике, а выпущенная в субботу обувь плюсуется к недельной выработке, будто бы сделанной в те же рабочие дни. Луцкий считал это недопустимым. Он утверждал, что такая практика — прямой результат неумения руководителей наладить работу коллектива. Начальники цехов в свое оправдание говорили примерно одно и то же: «План есть план, а как выполнять его — нам в цехе видней». В такой ситуации Луцкий, вероятно, был заинтересован примерно наказать Широкого.
Анна Васильевна Луговая как-то заметила:
— Луцкий обязан изменить положение на фабрике, даже если ему придется отказаться от услуг всех старых начальников цехов.
— Может, и не самым передовым методом, но старые начальники обеспечивают выполнение плана. И даже какое-то его перевыполнение. А где гарантия, что новые начальники смогут повернуть дело в лучшую сторону? — возразила я.
— Кадры — это вопрос вопросов. И не только на вашей фабрике.
Разговор оборвался, потому что кто-то позвонил Анне Васильевне, и я ушла из райкома, куда приходила уточнить план партийной учебы, за которую я отвечала на фабрике.
Думая о происшествии, приключившемся с Широким, я попыталась вспомнить события вчерашнего дня, события, происходившие в цехе. Ибо, конечно, положить в портфель Широкого ботинки мог только свой человек, имевший доступ в кабинет начальника. И сразу... Память подбросила три маленькие сценки, казалось бы и не связанные между собой.
Фрося Каменева с большим свертком из грубой желтой бумаги склонилась над тумбочкой Закурдаевой Люськи...
Люська Закурдаева выходит из кабинета начальника цеха. Увидев меня, будто бы немного теряется. Через минуты две я заглядываю к Широкому — его в кабинете нет.
Конец рабочего дня. Каменева и Закурдаева о чем-то шепчутся в раздевалке. Увидев меня, прекращают разговор. Люська уходит, опустив голову, не сказав мне до свидания.
Вспоминается совсем недавний эпизод: трясущаяся от злости Люська, выбегает из кабинета Широкого и говорит: «Он еще меня попомнит!» Кажется, так сказала она. Во всяком случае, так по смыслу...
Вернувшись в цех, я уже знала, что делать. Направилась к потоку, где работала прежде.
Женщина на рабочем месте Закурдаевой сидела незнакомая.
— Где Люся? — спросила я.
Фрося Каменева, с которой Люська последнее время дружила, отозвалась:
— Заболела она. К врачу пошла.
Смотрела пытливыми, беспокойными глазами, хотела выяснить, знаю я точно или о чем-нибудь догадываюсь. Неужели вот так лживо и неуверенно она смотрела в глаза своему мужу, который однажды приходил в цех в вылинявшей солдатской гимнастерке и просил Нину Корду и меня, чтобы мы помогли ему вернуть сына.
Семейный союз...
Может ли быть прочным союз с такой вот непутевой женщиной? Какое несчастье, что она красива. Несчастье и для нее и для мужчин, которые ее любят.
Я сказала, как бросила камень:
— Учти, Фрося, это дело уголовное. За соучастие — статья до шести лет.
— Ты о чем? — изменилась в лице, посерела Каменева.
— Сама знаешь. Есть свидетели, они все видели.
— Какие свидетели? Я плевала!
— Старо... Запомни, только в сказках туфли могут сами ходить.
Каменева обмякла. Лицо ее неожиданно посквернело: угловато прорезались морщины темными, глубокими черточками, веки оказались подсиненными излишне: налет вульгарности лежал на них, будто пыль. Растерянно поправила полу укороченного халата, не прикрывавшего ее круглые ляжки, взяла союзку и включила машину.
— Не черта передо мной распинаться! — выкрикнула зло, резко повернувшись. — Пугай лучше Люську, может, что и получится!
Тетя Даша, наш неразговорчивый мастер, слышала эту «веселую» беседу. Она подошла. Осторожно, будто я была из хрупкого стекла, коснулась моей руки. Глаза ее глядели широко, и старая кожа на лице морщинилась.
— Вот кадр, — в сердцах кивнула я в сторону Каменевой, — с такой разве поговоришь! Упрямая, как не знаю кто...
Медленно, но убежденно тетя Даша отрицательно покачала головой. Медлительность словно бы придавала вес ее несогласию, солидность.
— Бесстыжая она, — сказала тетя Даша тихо. — Такие вот целуются с ребятами в трамваях, на лестницах метро... Они бы и легли там, но из-за тесноты не могут.
Помолчала немного, глядя на люльки движущегося конвейера. И повторила со вздохом:
— Бесстыжая... А Закурдаева нет. Закурдаева себялюбивая...
Может, и правду тетя Даша говорит про Люську? Себялюбивая. Не «само», а «себя»... Видимо, справедливо заключить, что самолюбие, доведенное до абсурда, превращается в себялюбие...
Вот, к примеру, как Закурдаева разошлась с первым мужем. Иначе не скажешь: и смех и грех.
Вышла она замуж, едва ей восемнадцать лет исполнилось. Он уже армию отслужил. Сталеваром на заводе «Серп и молот» работал. Снимали они комнату где-то в Мытищах. До фабрики Люське добираться приходилось не меньше часа. Начинали тогда работу с семи часов. Это позднее стали начинать с половины восьмого. А в те дни — ровно с семи...