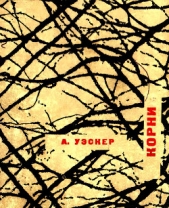Колесом дорога

Колесом дорога читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Матвей и порадовался, и пожалел, что заявился к Шахраю, да не на работу, где даже стены призывали его к лаконичности, а ввалился в дом, намекая как бы на некую близость, некие особые отношения, когда можно говорить больше и пространнее, сняв пиджаки. И себя, и Шахрая поставил в неловкое положение, будет вынуждать его к ненужным словам. А что значит для Шахрая какой-то председателишка колхоза, хотя во времена царя Гороха им доводилось ходить в одном хомуте, тянуть один воз. Сейчас ведь хомут у него другой, другие пристяжные.
Матвей сознательно обезличивал, принижал себя. За вольностью и какой-то даже развязностью укрывались и смущение, и горечь. Он знал себе цену, знал силу свою и Шахраю цену знал: как ни взлетел тот, но просто так от него, от Матвея, не смог бы отмахнуться. Если бы на то пошло, Матвей не постеснялся бы и грохнуть по столу кулаком.
Он терзался, идти или не идти к Шахраю, всю дорогу, хотя, собираясь в эту дорогу, уже знал: не к кому ему больше идти в Минске. Был, правда, в городе и еще один дорогой ему человек. Но к ней, к этому человеку, он поклялся себе показаться на глаза только перед смертью. И в автобусе в полудреме ему грезилось, что та последняя, завершающая все минута уже наступила и он сразу же кинется по адресу, прописанному раскаленными буквами в его памяти. Но, сойдя с автобуса, Матвей, ни минуты не раздумывая, пошагал к Шахраю. Не признаваясь себе, он все время надеялся на чудо, на то, что все происшедшее с ним — сон, наваждение. Ему казалось, что все эти три года он не жил, барахтался в теплой сонной воде и сейчас достаточно выйти из этой воды, ступить на берег, на прохладный и жесткий песок, и наваждение сгинет.
Мягкие объятия Шахрая отрезвили его, он опять был в той же теплой одурной воде. От себя никуда не уйдешь. Взрывал он шлюзы, поднялась у него рука, считай, на самого себя, а могла не подняться... себе ведь не соврешь. В роду его такого не было, хоть и кончился тот род на нем, но Ровды никогда силой не были обижены, никогда на своего же земляка и землю свою руки не поднимали. Он первый отважился, и не будет ему прощения от его же родичей, которые давно уже там, в земле. Может, потому и ушли, чтобы не видеть, не дожить до такого. Оставили одного, не дали продолжения. Ничто и никто не может изменить его судьбу. А надежда не потухала, и сейчас он был просто зол, зол на себя, на Шахрая, потому и выдумал эту бескостность его. Сон ведь это, сон. Хотел увидеть на лице Шахрая маску и увидел. А Шахрай в действительности остался прежним. Как и прежде, он будто работал на публику, хотя никакой публики не было. Это была еще одна, наверное, врожденная черта его — всюду и всем чуть- чуть подыгрывать и среди друзей чувствовать на себе взведенный затвор фотоаппарата. Тут Матвей опять уличил себя в несправедлив вости, в зависти тому, как всегда и со всеми ровен Олег Викторович, но остановиться уже не мог. Нарочитой казалась ему и простота, с которой был обставлен кабинет Шахрая, хотя именно в этом больше всего и сказывался прежний Олег Викторович, сказывалась примета времени, в котором он начинал свой путь. А кочевая жизнь на Полесье приучила его: ничего лишнего ни за спиной, в рюкзаке, ни в карманах. Ни одного лишнего предмета и в доме. Все вещи просты, назначение их понятно. За этой простотой и понятностью и пришел Матвей к Шахраю. Уже сам кабинет как бы убеждал Матвея, что он шел не напрасно. Кабинет был хотя и оглушающе огромен, но гол, пуст. На одной стене, почти вполовину ее, схема мелиорации Полесья. И в самом низу этой схемы маленькая точка — Князьбор, маковое зернышко и глаз змеи одновременно. Его жизнь, судьба. Матвею и в самом деле казалось, что эта черная точка на огромном листе фотобумаги и есть он. Все, что он делал, чем жил, собралось, сфокусировалось в эту немую точку — зрачок. И нет никакой драмы, потому что точек таких на карте множество, он и сам равнодушно скользит по ним взглядом, взирает на них слепой душой, слепым сердцем, если что и возникает в сердце, то только праздное, ни для кого интереса не представляющее, потому что у каждого человека своя настроенность и свое освещение вещей, своя собственная география. Матвей отвел глаза от карты Полесья, но три другие стены были нагие. Не загроможден был бумагами, делами и стол Шахрая. Горка гончарных дренажных трубок, вот и все. И от этих трубок, от схемы мелиорации Полесья запах торфяников, болот, луговой травы. Кажущийся запах, желание именно такого запаха, атмосферы. И Матвей понял, что, придя к Шахраю домой, он уже проиграл, сознательно лишил себя своего главного оружия, возможности говорить, как говорят на службе, в рабочем кабинете, а не по-домашнему, чуть ли не посемейному. Сейчас в доме Шахрая он был просто бедным родственником. Но за этой его уничижительностью пряталась и великая гордыня, последняя его защита. Ему нужен был сейчас человек, в равной мере повинный в том, что случилось с Князьбором, но волей судьбы ушедший от ответа. Ему хотелось знать, что кроется за этим, как говорится, простая ловкость рук и никакого мошенства или нечто более значительное, недоступное его пониманию. Матвею больше всего хотелось верить в это недоступное, хоть как-то, но оправдывающее и самого его. В самом деле, что он, Матвей, сделал неправого, сколько на этой огромной земле живет людей, а чистых праведников среди них еще не пришлось увидеть. Не видел он и таких, в ком не было бы ничего человеческого, но и совсем безгрешных тоже не видел, хотя и в колхозе, и в мелиорации насмотрелся всякого люду, не разуверился ни в ком. Не равны были люди, конечно, жизнь возвеличивала и поднимала, брала на щит одних, низвергала других, и все они в меру торговались с ней за место под солнцем, в меру были честны, и эта мера всегда учитывалась и планировалась и вверху, и внизу, всегда оптимально определялись горизонты ее, и оптимистическим было будущее, которое вставало за этой мерой. Никто никого не метил так, как пометили его, Матвея, и люди, и земля, и даже время, пометили именно за то, что был работящ и старателен без меры и по возможности честен. Не обманул, не украл, не убил... И все же...
А что все же? Это предстояло ему выяснить сейчас. Шахрай, думалось Матвею, обязан знать, хотя бы исходя из того, что находится над ним. Это было наивно, но хотелось верить, что так оно и есть.
Но не очень-то легко было остановить себя. Сейчас он обвинял Шахрая уже в умении вот так, одним-двумя штрихами создать даже атмосферу своей деятельности, обозначить, проявить то, чего нет, что только подразумевается. В этом тоже был весь Шахрай, тот, который на виду, для посторонних. Матвей же знал его другим и уважал в нем того, другого, напористого, бьющего в одну точку, мгновенно отсекающего все, что не касается дела. И этот Шахрай мгновенно проявился, как только коснулись дела, покончили с воспоминаниями, стал и костистым, и громоздким, неудобным. И Матвей вздохнул с облегчением, видя его прежним, слушая его прежний голос.
— Так ты за мою широкую спину... — После этих прямых слов Шахрай слегка сорвался, заговорил дружелюбнее, почти доверительно:— Как только перебрался в Минск, сел в кресло, друзья вспоминают Шахрая, когда их петух жареный клюнет. Думал, хоть ты зашел как человек, погутарить, чарку поднять,— и, раскаляясь: — Один, один, и выпить не с кем. И ты туда же, Матвей. На кого только не глянешь — одно и то же...
Такой Шахрай был в новинку Матвею, не понравился ему.
— Укатали вас, Олег Викторович. Плохо на вас влияет здешний климат, себя только во всем и видите.
— А ты кого видишь? Чуть припекло, тут же побежал покровителя искать. Можешь не беспокоиться. Тебя уже опередили. Прокуратура запрашивала, обращались ко мне за твоей характеристикой, можно ли тебя, депутата, в каталажку?
— И вы сказали, что, конечно же, нет... или можно?
— Я ничего не сказал. Я посоветовал прокурору посмотреть на тебя лично, побывать в твоем хозяйстве, взглянуть, каково тебе там приходится. Ты думаешь, я не понимаю...