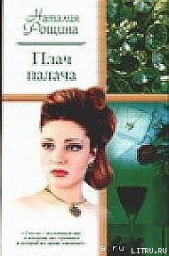Плач за окном

Плач за окном читать книгу онлайн
Центральное место в сборнике повестей известного ленинградского поэта и прозаика, лауреата Государственной премии РСФСР Глеба Горбовского «Плач за окном» занимают «записки пациента», представляющие собой исповедь человека, излечившегося от алкоголизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мужчина, обративший на себя мое внимание и в итоге испортивший мне настроение, был обвешан с ног до головы, точно связками баранок, этакими своеобразными кандалами из туалетной бумаги, ну, знаете небось дурацкими такими рулончиками, место которым не в сиятельном метро, а в сортире. Помимо v связок, в руках его болтались две плетеные сетки, набитые теми же рулончиками. И дело тут не в бумаге, как таковой, а гораздо тоньше. Ну вез бы он свои рулончики, как все мы что-нибудь везем, кто что: портфели, сумки, рюкзаки, лыжи, детей, тоску зеленую, а то и улыбку голубую, так нет же — выпятился со своими рулончиками, будто набоб, сверкающий драгоценностями!
Словом, испоганил мне настроение мужик, откуда только свалился такой в метро? Я даже про «спасенную в ночи» Густу позабыл от возмущения; поднимаюсь к себе на лифте машинально, дверь ключом отпираю и этак холостяцки, разнузданно пинаю дверь ногой, вхожу в квартиру, а в квартире… обедом пахнет! Настоящим супом и чем-то еще, поясалуй, кофием, как выражались персонажи классической литературы.
А Густа, в добавление к запахам, выкладывает:
— Звонили ваши. По междугородному.
— Ч-что?! И ты с ними разговаривала?
— Я им только сказала: вы не туда попали. Но они не поверили и набирали еще несколько раз. Только я уже не снимала трубку.
— Откуда ты знаешь, что звонили мои? Они, что — представились тебе?
— Они спросили Олега. А затем прикусили язык на какое-то время. Потом добавили: «Мне Олега Макарыча». Ну, я и решила… что лучше им «не туда попасть», чем узнать про меня. Или вы — не Олег Макарыч?
— Густа… Как ты себя чувствуешь?
— Болею, Олег Макарыч.
— Как тебя понимать? Температуришь, что ли?
— Не мерила. Тут другое вовсе… У меня обнаружилась хромота. Вот посмотрите! — С этими словами Августа прошлась по кухне, чуть приволакивая левую ногу. — То ли вывих, то ли трещина. Во всяком случае, с моим от вас уходом придется повременить. Если, конечно, вы не против. Необходим покой, массаж бедра, прогревание раскаленным кирпичом. Да, еще — растирание всякой дрянью, настоянной на спирту, лучше — на коньяке.
— Я-ясненько, — попытался я заглянуть в ее, как мне казалось, синие глаза и, напоровшись на изумрудные размывы зеленки, которой перемазал Августе мордаху вчера вечером, засомневался в реальности происходящих событий.
Я вдруг необыкновенно отчетливо представил себя прожившим отпущенный срок до конца, представил, что жизнь моя позади, что я уже умер или погиб, что моя телесная оболочка выбросила мою душу этаким элегантным колечком дыма, и ветер Бытия подхватил ее, чтобы нанизать на какую-нибудь случайную травинку; а жизнь всеобщая благополучно продолжалась, и все эти звуки города — шипение пневматических тормозов, рельсовый визг, стук увесистой «бабы», заколачивающей в матерь нашу планету железобетонную сваю, и звуки дома: пение кранов, падение и подъем воды по трубам, музыка, брань, душевный разговор за стеной — вся эта немолчная жизненная сутолока, окружающая меня сей миг, сей час сего дня, происходила как бы и не сегодня, а там, где-то в далеком далеке, когда меня действительно уже не будет.
Я хотел крикнуть миру — Густе, соседям, родным, главному редактору — всем-всем: валяйте, делайте из меня послушного обалдуя, настаивайте ваши растирки на чем угодно, хоть на моих невидимых миру слезах и несвоевременных мыслях, разводитесь со мной, как со старым греховодником, гоните меня с насиженного места работы в шею — не страшно, не убоюсь! Ибо… сделал шаг. Вышел в ночь, туда, за окно — из себя, из своего разутюженного страхом смерти мирка, — шагнул в мир неоглядный, в космос, в беспредельность душевной отваги. О, я теперь другой, убеждал я кого-то, только не Августу, которая была свободней и бесстрашней меня от рождения и еще потому, что при любых обстоятельствах оставалась собой — ребенком, то есть человеком, зачарованным жизнью, в отличие от меня, лишившегося этих чар и относящегося к жизненным красотам и посулам скептически, как собака, которой укоротили хвост еще в щенячьем детстве.
Прохожу на кухню, ориентируясь на запах супа и «кофия», и на обеденном столе обнаруживаю нечто необыкновенное, столь же трогательное, как, скажем, забытая птичья песня, пучок застывших, одеревеневших трелей какого-нибудь старательного жаворонка или зимородка: на столе в керамическом кувшинчике вижу букет полевых цветов, которые можно сыскать на любом окраинном пустыре города — хрупкие голубые колокольчики, лохматые розовые, какие-то клоунские головки клевера, несколько лучистых ромашек, веточка незабудки, затем просто какая-то травка и как бы для освещения — желтый огонек одуванчика.
— Откуда… трава?
— Это букет. Позвонили в дверь, открываю. Протягивают цветы. Взяла, разве откажешься? От цветов еще никто не отказывался.
— А кто, кто хоть позвонил-то? Почему ходят? Небось волосатик этот? Который горячей водой интересовался?
— Откуда мне знать? Одна рука просунулась, поди разберись. Я ведь цепочку не снимала. У меня, может, поджилки тряслись. Олег Макарыч, а это ваша жена там, на фотке, в книжном шкафу под стеклом? Симпатичная, только старенькая уже.
— Это моя бабушка. Ей здесь тридцать пять лет всего лишь! Ничего себе — «старенькая».
— Когда мне будет тридцать пять лет, я в парандже стану ходить, как где-нибудь в Иране, а не… фотографироваться.
— Ну и глупо! В любом возрасте — свои преимущества.
— Не сердитесь, Олег Макарыч, я вам суп сварила. Правда, рыбный всего лишь. Банку килек в томате нашла. В холодильнике. Да пару картошин. А когда подметала, то луковицу из-под плиты вымела. Лаврушки, перчика бросила. Ничего супешник получился.
— Послушай, Августа… Болеешь, так болей! Я в столовой питаюсь.
— А мне… неприятно болеть сложа руки. Я вам еще постирушку соображу.
— Не смей этого делать! — перешел я на поросячий визг и тут же улыбнулся, так как успел сообразить, что злиться на ребенка глупо, а на себя злиться лучше всего где-нибудь в укромном месте, скажем — в смирительной рубашке или в «кабинете задумчивости».
И вдруг я вспомнил, что через пять дней приезжают жена с дочкой, и неплохо бы к этому времени навести в доме порядок: освободиться от всего лишнего и вообще прибраться, черт возьми! И еще я подумал: как хорошо, что мои — вместе, рядом, пусть на юге, однако не мыкаются врозь, как вот эта несчастная Густа… Хотя опять же: почему я решил, что Августа не имеет матери, что живут они врозь, как придется?
— Чья ты, Густа? — подумал я вслух, усаживаясь на табуретку возле тарелки с чем-то горячим, оранжевым.
— Не поняла вас, Олег Макарыч?
— Дочка — чья? Мама твоя — где? Прости, что вторгаюсь, но… Почему ты одна… на пустыре, избитая? Страшно ведь.
— Нормально. Я ведь, Олег Макарыч, в тайге родилась. Среди, людей, отрезанных от цивилизации. Может, слыхали про такое чудо? Статья была в «Комсомолке» или где-то еще. Нет, не среди «снежных людей», а среди людей, которых обошел прогресс со всеми его достижениями. Представляете? Между прочим, я это хорошо даже помню: среди обитателей наших трех таежных хуторов в обращении были медные деньги времен царствования Петра Первого и дочери его Елизаветы.
— Ну, что ж ты замолчала? Рассказывай дальше.
— Вам интересно? Вы что же, верите мне?
— Верю.
— Хорошо здесь у вас… Хоть отдохну маленько от этим самых, от житейских треволнений. — Густа сладко потянулась, едва при этом не соскользнув с пластиковой табуретки. — Это я сегодня в одной вашей книжке старинной вычитала, про «житейские треволнения». Надо же, сколько у вас книг! Даже страшно — сколько писателей в одной комнате! Слишком серьезно как-то. У нас — просто волнения, а в прежней жизни — треволнения были. В три раза больше волновались, выходит? Вот и верь после этого, что прежде люди спокойней жили.
— Густа, а тебе нравится книги читать?
— Книги — не очень. Мне журналы больше нравятся. Которые согнуть можно или за пазуху сунуть. А книга — это вещь! Предмет искусства. Я бы у себя тоже книги держала. Поставила бы на полочку и смотрела бы на них. И чтобы не боком, а — лицом в комнату. Вот только комнаты своей пока что нету.