Казачка
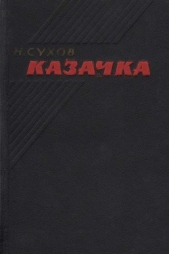
Казачка читать книгу онлайн
Роман "Казачка" замечательного волгоградского писателя-фронтовика Николая Васильевича Сухова посвящен четырем годам жизни обыкновенной донской станицы. Но каким годам! Разгар Первой мировой войны, великие потрясения 1917 года и ужасы Гражданской войны — все это довелось пережить главным героям романа. Пережить и выжить, и не потеряться, не озвереть в круговерти людских страстей и жизненных коллизий.
Роман Николая Сухова успешно продолжает и развивает славные традиции истинно народного повествования, заложенные в знаменитой эпопее М. Шолохова "Тихий Дон".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мабуть, и вправду хлопец-то гарный!
На кубанца со всех сторон зашипели, и тот как бы для потехи, а по сути чтобы скрыть смущение, по-школярски спрятался за спинку скамьи, сгорбившись и пригнувшись, выставив могучие, в косую сажень, плечи.
Малахов, вскидывая изредка руку, отвечал предыдущим ораторам:
— …а вы говорите, победа, дружный натиск, оборонительная война или наступательная. А ради чего эта война?
Ради чего вы требуете жертв? Почему из вас никто не сказал об этом? Никто. Ради того, чтобы пухли у толстосумов барыши, а народ нужду принимал, страдал? Так ведь выходит. Вы кормите нас обещаниями: мол, конференция, Учредительное собрание. Барин, мол, приедет, барин рассудит. Хорошо. Пускай рассудит. А когда все ж таки он приедет? Сколько еще ждать нам? Мы ждали, много ждали, а теперь невтерпеж стало.
По залу перекатывалось уже не мычание, а настоящий рев, и все чаще из этого рева вырывались резкие возгласы:
— Большевичий подпевала, слыхали такие побаски!
— Бузуй, бузуй, станичник!
— Хватит, проваливай, пока цел!
— Режь под сурепку, под корень!
— Доло-о-ой!
Малахов на минуту умолк, покачался на месте, как бы разминая тело перед схваткой. Потом ладонью растер по лицу струйки пота и повернулся к фронтовикам.
— Мы думали: раз царя не стало, то, стало быть, мир. Думали, что революция прикончит бойню. Ан не тут-то было. Тот же самый Фома, лишь наново перекрестили… Выбрали казачьи комитеты. Хорошо. Но офицеры с нами не хотят работать, не признают нас. Я председатель корпусного комитета и ответственно говорю это. Гонят нас снова туда же… А мы не можем больше воевать. Мы, фронтовики, требуем: дайте нам немедленно мир, дайте беднякам помещичью землю, голодающим — хлеба…
Возгласы взметнулись с утроенной силой, угрожающие, гневные. Депутаты, вертясь и подпрыгивая на скамьях, загремели сапогами, задвигали стульями. Заволновался и президиум. Дутов, морща лоб и выпячивая крупные мясистые губы, зашептал что-то склонившемуся к нему Караулову. Малахов побледнел, и лицо его стало пестрым — оспинки подернулись коричневым румянцем. Отчаянно тыча пальцем в сторону бородачей, он уже не говорил, а, надрываясь, кричал:
— Братцы! Станичники! Фронтовики! Нам затыкают глотку. Вот они. Они нам затыкают глотку. Не-ет! Прошло время. Теперь не заткнете, нет. Фронтовики, вы посмотрите… Вы посмотрите, кто тут собрался, кто сидит. Тут черносотенная братия сидит. Мы ни в жисть не договоримся с ними. Никогда! Им царя надо, царя, дом Романовых. Мы не туда попали, не на тот Совет. Тут нам делать нечего. Совет союза казачьих войск распустить. Войти в Совет рабочих и солдатских депутатов, пусть он будет — и казачьих депутатов…
Тут уж поднялось что-то совершенно невообразимое. Говорить Малахову больше не дали. Зал заседания превратился в дико орущую, взбешенную толпу, и понять что-либо было решительно невозможно. Депутаты, размахивая кулаками, повскакали с мест, лица у всех налились яростью. Какой-то богатырского сложения старик, со всклокоченными волосами и бородой, грохая сапожищами, побежал к возвышению. У передних скамеек в него вцепились несколько фронтовиков и преградили ему дорогу. «Пустите, пустите, — хрипел тот, дергаясь, заикаясь от душившей его злобы, — у меня внеочередное предложение!» Но старика опередили, и внеочередное предложение уже вносилось: за государственную измену лишить вольноопределяющегося Малахова депутатских прав, казачьего звания и предать суду. Неизвестный фронтовик, вспрыгнув на возвышение, попробовал было доказать, что теперь свобода слова и каждый свободно может выражать своп мнения. Но фронтовика этого, не выслушав до конца, столкнули оттуда. Внеочередное предложение тут же в злопыхательстве было проголосовано и большинством голосов принято.
Федор смотрел на всю эту кутерьму и никак не мог поверить, чтобы здесь, в центре, на таком важном совещании, о каком он без волнения не мог, бывало, подумать, все происходило точно так же, не хуже и не лучше, как и на хуторских сходках. «Вот так свобода слова! — думал он. — Хороша свобода…» Все время наблюдая за Малаховым, Федор видел, как тот обогнул на возвышении всклокоченного старика, вырвавшегося наконец от фронтовиков, спустился в зал и спорыми редкими шагами пошел к выходу.
Федор заторопился следом. Но пока он, растолкав соседей, с трудом выбрался из средины ряда, Малахов скрылся. Федор метнулся в пустой вестибюль, оттуда на лестницу, с лестницы к подъезду, на улицу, где толпами брели горожане, но Малахова и след простыл.
«Ой, разиня, ой, какой же я разиня! — бессильно злясь, ругал себя Федор. — И как я не догадался вылезть пораньше». Нервно шагая, он походил взад-вперед у подъезда, выкурил подряд две папироски и вяло, неохотно, уже без веры и без надежд, неся в душе горечь разочарования, поднялся по ступенькам на второй этаж, в зал, где все еще бурлило заседание Совета и какой-то бородач из президиума, стуча по столу кулаком, громил внутренних и внешних врагов.
VI
Степь. Пустая и глухая. Сентябрь.
Давно уже потонул во мраке закатный луч солнца, по-осеннему багряный и неяркий: облил золотящейся полудой жнивье по обеим сторонам от шляха, расцветил поблекшие листья терновника, коротающего век небольшими садами и в одиночку, поиграл на гребнях курганов — и потух. Потух и единственный, на бугре, костер, пунцовой крапиной мерцавший вдали. Тьма объяла все. Степь отзвенела перепелами, кузнечиками, жаворонками; отблистала разноцветьем трав и замерла на зиму. Дико, черно и мертво. Мертвенным провалом зияет овраг, глубокий, крутобережный, на многие десятки верст разрезавший степь; мертвенно пахнут никлый, охваченный тленом полынок и седой подорожник; безжизненно и тускло отсвечивает луна. Ни звука. Лишь изредка, смутно шумя, прошуршит по стерне полуночный ветер, густой, вяжущий холодком, или сухо и слабо треснет что-то: то ли ветка терновника под дремлющей перелетной птицей, заночевавшей на кусту, то ли бурьянина под лапой зверя.
О людях напоминали лишь хриплые крики, доносившиеся оттуда, где еще недавно мерцал костер и где при скупом лунном свете работали, понукая волов, запоздалые пахари. Но вот незрелая луна скрылась, унеся остатки света, и тоскливые, бесконечно протяжные голоса пахарей утихли. Признаков человеческого уже не стало.
И тогда по чугунно гудящему неподатливому шляху в чуткой настороженной тишине застучали конские копыта. Застучали тревожно и немо. Не видно было ни седока, ни лошади. Только по-над шляхом низко-низко плыло какое-то серое пятно да несся, тревожа тишь, топот. У деревянного, через овраг, мостка лошадь, как видно, заноровилась, всхрапнула, танцуя на месте. Но раздалось злобное рычание, щелчки, похожие на всплески кнута, гулко стукнули копыта о дощатый настил. И удары копыт, стихая, унеслись дальше. Черствая от бездождья земля поглотила последние отзвуки. Все смолкло.
Молчит курган, притаившийся сбочь шляха, очевидец диких половецких тризн, бесформенный, огромный, сумрачный, с густыми космами бобовника на макушке; молчит прижавшийся к кургану куст терновника, низкорослого, воинственно ощетиненного, с плодами на приземлившихся ветках; молчит вся угрюмая, таинственно задумавшаяся, беспредельная степь.
В ту же самую пору, по тому же шляху, только в обратном направлении, ехал Алексей Парамонов. Он возвращался домой из Урюпинской окружной станицы, куда по окончании отпуска ездил на переосвидетельствование. На комиссию, признавшую его уже вполне здоровым и годным к продолжению службы, к назначенному часу он не поспел, пришлось хлопотать перед начальством, чтоб его пропустили в тот же день, ходить от одного начальника к другому, и он задержался дотемна. Старый кривой меринок, на котором ехал Алексей, быстроногостью не отличался, дорога предстояла дальняя, но оставаться на ночевку ему не хотелось — на сборы дали ему очень мало времени: через трое суток он уже должен отправиться в часть, и эти считанные дни — не дни, а часы — терять даром расчета не было.
























