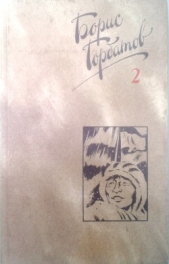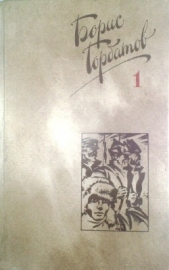Собрание сочинений в четырех томах. Том 1

Собрание сочинений в четырех томах. Том 1 читать книгу онлайн
Том 1 - Железный поток. Город в степи. Пески
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда огромная кровавая туша, на которой не было лица, перестала подаваться под ударами, Захарка вылез из загородки.
— Буде вам!.. зверье... дорвались... убьете на свою голову...
Те остановились, задыхаясь, отирая кровь на разбитых лицах.
— Волоките его домой.
— Куда! Его разве сволокешь? Ишь туша! Как бык освежеванный.
— Кабы не помер, еще расхлебывать придется.
— Везть надо.
Захарка велел запрячь лошадь, и Липатова отвезли домой.
— Ну, теперича отпусти нас, — приступили мещане.
— Ну, вот вам по полтине.
Они угрожающе надвинулись.
— Это что же, на попятный? Рядил по целковому на брата, а теперь по полтине? Не модель.
— А водки сколько стрескали, не считаете?
— Во-одки!.. А искровянил он нас всех, это не считаешь? Должен еще прибавить по двугривенному, во как.
Захарка озирался, как загнанный зверь, но уйти нельзя было, — они обступили кругом, тяжело дыша, окровавленные, изорванные, с распаленными глазами. Пришлось расплатиться, как требовали.
Первое, что увидел Липатов, открыв глаза, бледное пятно. Оно долго стояло над ним во мгле землянки, и он смотрел на него. И стали проступать на нем глаза, которые горели горячечным блеском. Должно быть, освещенную ими, он разглядел невиданную дотоле человеческую худобу. Острые кости подымали тонкую бледную кожу, заостренный, как у птицы, нос, ввалившиеся виски и бледный острый подбородок.
Липатов пошевелил губами, но они были толстые, пухлые, как подушки, и только шуршали поднявшейся кожей.
Белое, как бумага, пятно приблизилось и проговорило:
— Ис... пить... вам... Осип... Митрич?
И такая же белая, с обозначавшимися тонкими косточками рука подняла чашку, в которой дрожала и плескалась вода. Когда напился, откинув голову, стал опять глядеть на белое лицо. На лице раздувались ноздри от слабости и усилий держаться. Она проговорила с трудом шуршащие слова:
— Ох... невмого... ту...
Опустилась, и он перестал видеть.
Он стал думать и узнал, что это его жена, Марья. Били его... Захарка... гирями...
Марья закашлялась и кашляла долго, с надрывом, задыхаясь. Он скосил заплывшие глаза и увидел, — она лежит возле на земляном полу, на котором натрушена солома, и тяжело с перерывом дышит.
— Били меня вчерась... гирями, — с трудом ворочая опухшими губами, начал Осип и остановился, так как не знал, что хотел сказать дальше.
Слышалось только свистящее дыхание Марьи, да тараканы бегали по обмазанному потрескавшемуся потолку, роняли с тихим шуршанием кусочки глины.
Собравшись с силами, расставляя хриплым дыханием слова, она проговорила:
— Не вче-рась, дру...гую... неделю... ле...жите...
Осип стал глядеть перед собой, и тяжелая, непривычная мысль тянулась и не могла дотянуться до какой-то правды, которую он не мог понять. Тогда он бросил думать, прислушался к трудному дыханию Марьи, и вдруг ему стало жалко ее.
Он опять скосил глаза и приподнял и повернул голову.
Марья следила за ним блестящими глазами, все так же раздувая ноздри, и, как только он заворочался, с перехватывающимся дыханием поднялась, подавая дрожащую, плещущуюся чашку с водой.
— Испей...те... во...дицы, Осип Ми...трич...
Вдруг он сел и заговорил, шлепая опухшими губами и дико моргая багровыми веками:
— Маша, а Маша!.. Да черт с ними, с деньгами, пущай подавятся... Маша, худая ты...
Белое лицо жены было так же строго той строгостью, когда лицо не умеет улыбаться, не умеет отражать душевных движений, но в зрачках далеким, слабым отблеском блеснуло счастье. С этих пор она уже не сводила с него глаз, строго, серьезно следила за малейшим движением. Когда Липатов в первый раз стал на ноги, он поднял ее, как перышко, положил на нары, а сам лег на солому возле. А она проговорила, с усилием дыша:
— Напрасно, Осип Митрич... вам там лучше...
Липатов поправлялся, а она слабела. Уже на могла поднимать головы и поворачивать, а следила за ним, скосив, одними глазами, не отрываясь. А Липатов глядел на нее с полу, и растоплялось у него сердце.
— Маша, да ну их к черту, деньги-то... Маша, худая ты...
Стал выходить на работу и работал, как вол. Началась опять ровная рабочая жизнь, как будто влег в привычный родной хомут, без которого и жизнь не в жизнь.
К вечеру приходил домой и стряпал, а она, не поднимая головы и не отрываясь, следила за ним.
— Маша, медку тебе принес.
— Вы сами... скушайте... Осип Митрич.
— Ешь, ешь, хороший медок.
Он поднимал ее широкой лапой и кормил из руки, а у нее было такое же строгое лицо и в глубине зрачков — безумное счастье.
Раз он пришел, она не повернула к нему глаз, а смотрела в потолок и редко дышала. Он приготовил поесть, сел возле на обрубке и долго слушал ее редкое шумящее дыхание.
— Помрешь ты, Марья...
Она так же важно и строго глядела в плетневый, с облупившейся глиной потолок и проговорила:
— Кто вам рубахи стирать будет... Осип... Митрич?
Осип как-то несообразно мотнул головой, как бык, которому накинули веревку, и засопел:
— Некому будет, Марья Лексевна.
Через два дня ее несли на кладбище. Шли соседи. Осип ревел тем страшным голосом, которым ревет скотина, почуяв кровь.
Потом опять надел лямку, и потянулась рабочая, похожая одним днем на другой жизнь, и в обваливающейся землянке, в которой по колено стояли сор и грязь, его никто не встречал.
VIII
Мертвое царство, густо усеянное крестами и обнесенное валом и канавой, год от году богатеет и ширится — тесно становится. Языками выползают в степь белеющие новым тесом кресты, и, где было ровно и только сизый полынок, глинисто пестрят свеженасыпанные холмики.
Старые могилы давно поросли густой травой; кресты покосились, а где и упали, и наместо их весело и нежно, как молоденькие девушки в прозрачно-сквозящих бледно-зеленых платьях, улыбаясь, шевелят ажурно-кружевной листвой акации.
И высокие тополи, такие грустные в своей стройности, трепетно струят сверкающую листву, одиноко возносясь в степное небо.
Покойники тесно ложатся друг около друга, отнимая у степного простора все новые и новые места, — ложатся молчаливые, намучившиеся там, откуда их принесли.
И солнце стоит над ними, и бегут облака, и носится пыль, и ходят зимою бураны с мертвым пением...
Рядом с мертвым царством ширится, растет царство живых, буйно раскидывая по пустой степи улицы, переулки, площади, полные гомону, пыли, движения, живого человеческого запаха.
Лавки, трактиры, пекарни, сапожные, портняжные заведения — все, что человека одевает, обувает, кормит и веселит. Несутся песни, крики, брань, голосят торговки, телеги тарахтят, снует народ, роются с разговорами в пыли куры, деловито лают собаки.
— Эй, посторонись!..
— Ква-асу... ква-асу хорошего!..
— Почтенный, как проехать на Куриную Слепоту?
— Направо переулком, опять улица влево, увидишь, собаки брешут, это и есть.
— Помолчи, честной наро-од!..
— Я те помолчу... Вот этого хочешь?
— Держи, держи, ребята... гужи срезал!..
— Ве-о-о-дра, ка-за-ны-ы починя-а-ать!..
— Кому набоечку накинуть?! Эх, почтенный?!
И надо всем солнце, и бегут облака, и виснет пыль, и с похоронным пением ходят по зимам мертвые бураны.
Давно пропали землянки. На их месте высятся двухэтажные дома под железными крышами, с палисадниками, с пирамидальными тополями, стройно возносящимися к голубому небу, и стаи голубей носятся над крышами.
На окраинах, где степь, лепятся землянки новых пришельцев, тянутся огороды, и в странном контрасте с открывающейся степью темно зеленеют молодые сады.
Те, что когда-то табором случайно заночевали в открытой голой степи, над которой одиноко стояла ночь да звезды, положили тут своих покойников, поставили кресты и уже забыли тихие воды, далекие могилы и назвали эти молчаливые, от века думающие места, — назвали своей родиной.