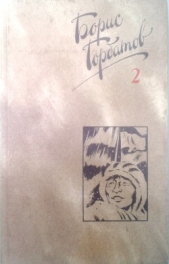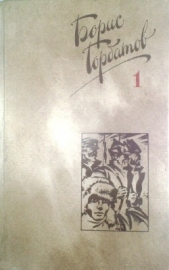Собрание сочинений в четырех томах. Том 1

Собрание сочинений в четырех томах. Том 1 читать книгу онлайн
Том 1 - Железный поток. Город в степи. Пески
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все тот же неоглядный палимый простор. Далеким маревом облеглась степь и без границ потонула.
Без конца тощий, пыльный, не скрывающий иссохшую землю корявый полынок, небритые щетинистые жнивья или постаревшие, усталые пашни, все свои родящие силы отдававшие урожаю.
Горячий степной ветерок звенит играя. Прихватит насмешливо пыль и соломинки по дороге и побежит, тонко и серо крутясь. Туда нельзя бросать нож — брызнет кровь. Или высоко, до самого неба, вздыбит черный столб, и ходит он, далекий и смутный, напоминая пожар, пока не рассеется.
Ветер бежит, играя, все в одну сторону, а облака, ослепительно белые, с серыми пушистыми брюшками, странно бегут в другую сторону, и внизу вместе с ними бегут их плоско-изменчивые тени.
Далекой прерывистой черточкой тянутся волы и возы с хлебом на тока.
Нескончаемым и странным караваном мерно ступают друг за дружкой, взрывая пыль, верблюды, запряженные в двуколки. Огромные, в рост человека, колеса все покрывают раздирающим скрипом, и горбы свешиваются на стороны, как опорожненные мешки. На степную ярмарку везут товар, и пыль плывет за ними.
Прозвонит колокольцами на тройке заседатель, в парусиновом халате, сердито нахлобученной посеревшей фуражке; и замрет вдали звук, оставив над дорогой уносимую пыль.
Калмык стороной проскачет на горбоносой лошади, оглядывая узкими глазами — кобыла забежала из табуна. И опять ветер, да облака, да знойный простор.
Неотделимо связываясь с этим зноем, с без конца бегущими облаками, с играющим ветром, видна по дороге женская фигура, в лохмотьях, с почернелым от солнца, сквозящим в изорванной рубахе телом. Ноги полопались, вспыливая горячую дорогу, непокрытая голова посерела от густо набившейся пыли, а огромные черно-провалившиеся горячечные глаза на нечеловечески исхудалом лице с безумной жадностью ищут и глядят вдаль по нескончаемо пропадающей извивами дороге. Шепчут иссохшие, истрескавшиеся губы, показывая липкие десны:
— Господи Иисусе, спаси и прокляни грешницу... Разрази громом-молнией... разруби зубы волчиные...
Неоглядное желтеющее лицо степи то засмеется, залитое солнцем, то потемнеет бегущей тенью.
Отдаленно курится легкое курево — стоит молотьба на токах. Плавают широкими кругами рыжие коршуны, зорко поглядывая, и по жнивью, бесчисленно чернея, грачи.
И женщина вдруг засмеется. На костлявое лицо с провалившимися глазами мелкими морщинами ляжет дразнящая улыбка, и сейчас же потемнеет, набежит судорога, дернутся вниз углы губ, и всхлипнет.
Опять торопливо спешит по пыльной горячей дороге неведомо куда. Не отрывает воспаленных зноем, блуждающих глаз от лиловой, вечно отступающей черты, где могуче слились синий океан неба и синий океан степи, — и бегут по небу белые облака, и бегут по степи темные тени.
Там тихонько отделяется полоска земли и блестит узенько протянувшаяся вода. А над ней, смутно рисуясь, проступают синеватые силуэты верб, ветряки, крыши. И все это — живое, зыбкое, неуловимое, и сами собою ускоряются шаги к людскому жилью.
А синеватые вербы, ветряки, крыши постоят немного, помутнеют, тоненько отделятся от земли, призрачно подержатся в воздухе и тихонько, без следа растают в знойной игре, и лишь легкие курева курятся, плавают коршуны, чернеют грачи, и меняющаяся степь безгранично глядит в бегущее небо.
— ...разруби зубы волчиные... прокляни и спаси грешницу неотмоленную... Иисусе... Иисусе...
И засмеется.
Катится телега, бегут, мотая головой, сытые маштаки, катится, окутывая их, пыль, лежит на брюхе работник с черно-загорелой шеей, и в пыли вместе с телегой бежит скучная, сонная, как эта далекая степь, заунывно-одинокая песня:
...Ай-да-а-а... де-е-ев-ка-а... де-е-евоч-ка-а...
Бе-ез ро-о-о-ду-у бе-е-сз пле-с-ме-е-ни-и...
Го-о-рь-ка-а-я го-о-о-ло-ву-шка-а-а-а...
С удивлением видит странную, непокрытую, нечеловечески исхудалую, сожженную солнцем женщину в лохмотьях. Она кричит, исступленно махая черными от загара руками:
— Куда бежишь?.. Ой, постой, беси за колеса цапаются!.. Бей грешницу!..
Тот смеется и, лениво напруживши крепкую руку, вытягивает ее кнутом. Женщина с радостно визгливым не то смехом, не то плачем отскакивает, хватаясь за обжегший рубец, а телега уже далеко, и из клубов бегущей пыли несется, умирая:
Го-о-рь-ка-я го-о-о-ло-ву-уш-ка. —
умирая, как этот далекий безграничный простор в фиолетово-млеющей дали.
Та же бесконечно серая дорога. Торопливо вспыливают ее истрескавшиеся ноги. Тяжело пылающее солнце перевалило на другую половину неба, не умаляя зноя. Лишь бегущие облака на секунду обессиливают его.
Гусиные выводки, как пушинки, белеют и сереют, такие маленькие перед громадой степи. Пятном темнеют терны, и сидит девочка с хворостинкой, а в косичке красная ленточка.
Женщина в лохмотьях останавливается и кричит исступленно:
— Бей грешницу!..
Девочка бросает хворостинку и с плачем бежит, мелькая босыми ногами, а по тонкой загорелой шейке бьется косичка с красной ленточкой.
В балке — хутор. Поверху — ветряки, неподвижно отвернувшиеся от ветра. По пересохшей речонке внизу огромные вербы левад; из-за вишенника лохматятся соломенные крыши.
Никого — все на молотьбе. На улицах только зной, куры да собаки, лежа в тени, лениво цокают мух, да ребятишки, сидя на припеке, разгребают и играют в пыли.
Измученная, с иссохшим черным лицом, в лохмотьях, женщина кричит ребятишкам:
— Бейте грешницу... бейте ее, непрощенную...
Ребятишки обрадованно вскакивают и запускают в нее камнями и комьями, норовя попасть в голову. Она бежит, летят ребятишки, улюлюкая, несутся собаки, остервенело лая, и камни срывают кожу, оставляя пятна густых синяков.
Подымается окошко, и шамкающий голос:
— Брысь вы, пострелята!.. Ужо я вас!.. — И протягивает старческой дрожащей рукой кусок хлеба.
Та хватает, запихивает за пазуху и бежит, преследуемая стаей ребят и собак.
Далеко назади балка с хутором, и ветряки маленькие сделались, а она идет и спешит по пыльной горячей дороге, не отрывая горячо-ждущих глаз от знойной, трепещущей дали, где обманчиво родятся и тают хутора, и деревни, и люди, родятся и тают марева. И курятся курева, и плавают коршуны, и глядит необъятный степной простор в необъятно синеющее небо с бегущими облаками.
Великая степь поглотила великую грешницу.
Те, что жили в поселке, забывали, что есть степь, что она огромна, молчалива, лежит вековечная дума неразгаданно, что там своя жизнь, и людская и звериная. Торопливая толчея наполняла каждый час, и кругом, заслоняя, стояли дома и мазанки. А плотничьи артели, стуча топорами, выводили все новые дома. Мазанки разваливали, готовя места под срубы, и стояли столбы не оседающей под ними пыли.
Захарка тоже не помнил, что есть степь и что она громадна.
Когда спрашивали:
— Где же находится Кара Захаровна?
Он ронял:
— К мужу поехала.
— Да никак муж ейный, сказывали, помер.
— А тебе какое дело!.. Что суешься не в свое!..
И целый день ходил злой, не поворачивая шеи.
Огромное хозяйство на ходу и тысяча неотложных дел делали свое и заметали прошлое. Но совсем извести его Захарка не мог.
Ругался ли с рабочими, принимал ли товар, в лавке ли резонился с покупателями, между мыслями, разговорами, заботами, как тонкое острие с зазубринкой, стояло напоминание, смутное, неясное и нетревожимое, пока не взглядывал на мальчика.
А когда взглядывал, всегда он стоял на кривых ножках, хилый, золотушный, сопливый, с огромной бледной головой, плохо держащейся на тонкой шейке, со свисшим назад затылком и выпятившимся над глазами черепом. А глаза всегда круглые, удивленные, и палец во рту, и всегда смотрит на деда. Это раздражает, особенно большие желтые уши, плоские и сдавленные виски с боков.