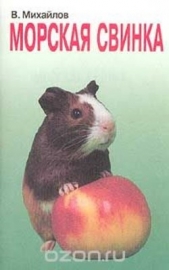Повести

Повести читать книгу онлайн
Янка Брыль — видный белорусский писатель, автор многих сборников повестей и рассказов, заслуженно пользующихся большой любовью советских читателей. Его произведении издавались на русском языке, на языках народов СССР и за рубежом.
В сборник «Повести» включены лучшие из произведений, написанных автором в разные годы: «Сиротский хлеб», «В семье», «В Заболотье светает», «На Быстрянке», «Смятение», «Нижние Байдуны».
Художественно ярко, с большой любовью к людям рассказывает автор о прошлом и настоящем белорусского народа, о самоотверженной борьбе коммунистов-подпольщиков Западной Белоруссии в буржуазной Польше, о немеркнущих подвигах белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, о восстановлении разрушенного хозяйства Белоруссии в послевоенные годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прошло уже то время, когда надо было людей уговаривать, чтоб шли на работу. Иной раз с полудня думаешь, чем же завтра всех занять. Хотя, правда, некоторые все еще стонут, нарезая ломтями хлеб: «Сегодня-то ладно, а вот что завтра нам скажет?!»
И первый среди них — он, Мукосей… Ах ты, мать твоя сено ела!..
Леня даже поводья рванул, погнал Метелицу рысью, вспомнив белобрысое, изрытое оспой лицо своего ночного соучастника. Воспоминание с новой силой всколыхнуло в душе всю ту горькую черноту, из-за которой вот и в родную хату идти не хочется…
Теперь вообще махнуть бы ему куда-нибудь подальше, как Буховец, чтоб не думать: забежать домой позавтракать или нет, сразу же поговорить с Алесей или подождать?..
Зайти, конечно, придется — не сейчас, так в обед, куда ж ты денешься, как им объяснишь? В конце концов, зайти не так уж трудно, а вот начать с Алесей разговор — для этого надо столько смелости…
Не смелости, а, пожалуй, честности. Просто трудно решить: что сказать, в чем признаваться, а что — так будет лучше для обоих — оставить при себе, и навсегда.
И не признание, в конце концов, самое трудное. Эта горечь, боль, то, от чего бежал бы куда глаза глядят, что хочется любой ценой забыть, — еще сильней из-за подленькой причины, которая заставляет его как можно скорее признаться жене… Словом, запутался Живень, влип…
Что ж, лучше всего сделать так, как решил на рассвете: поговорить с Адамом…
Леня криво улыбнулся: «Деточка! Шнурки на ботинке узлом затянулись — папа нужен!..» Прогнал этот обидный укор рассудительной мыслью: Адам умный человек, добрый друг, не раз помогавший ему в беде. Ну что ж, не вышло сейчас, так поговорим вечером. Оттяжка, и то легче. А жить и дело делать все же надо.
«Домой пока не поеду: пускай уж днем. Не стоит и к строителям, где кончают саманную кузню: там Мукосей…»
Не доезжая до деревни, Леня полем свернул направо. Туда, где на четвертом, самом дальнем участке сегодня начнут сажать картофель.
2
«Ерундовина» случилась накануне.
А сначала была та обманчивая радость — черт бы ее побрал! — из-за которой и совершаются глупости.
В прошлый понедельник он был в райцентре. Попутчиков в будний день не нашлось, и, возвращаясь, Леня стоял в кузове трехтонки один. В кабине, рядом с Ольшевичем, шофером, сидел по праву старшего Хомич. Потому и посмеивается он теперь, что знает все…
Леня увидел ее на развилке у белой католической часовенки под старыми липами, в том месте за крайними домами и хатками городка, где обычно собирались «голосующие». Была она не одна: стоявший рядом безусый старик в пальто с чужого плеча уже загодя поднял руку. По плащику на женщине и по двум чемоданам Леня догадался, что это еще одна гостья — туристка из Польши. Много их приезжает последнее время к родным.
Ольшевич остановил машину. Старик, задыхаясь, подбежал рысцой с двумя чемоданами к заднему борту. Леня взял у него багаж, подождал, пока они попрощаются, и, перегнувшись через борт, протянул зарубежной гостье руку… И в тот миг, когда он ощутил в своей руке тепло ее маленькой сильной ладони, когда взглянул в открыто улыбающееся, все еще молодое, красивое лицо, Леня узнал женщину окончательно.
Легко перебравшись через борт, она поправила волосы, упавшие на лоб, сказала, прищурившись, «спасибо», а потом «здравствуйте». Когда же машина покатила и старик перестал махать длинной рукой в коротковатом рукаве, женщина посмотрела на Леню, кокетливо откинув гордо-красивую голову, и удивленно улыбнулась.
— Пане Леосю! — чуть не вскрикнула она, протягивая руку. — Але ж дзень добры пану! А пан ничуточки не изменился. Такой же молодой, симпатичный. Ведь столько лет прошло после нашей с паном последней встречи, столько лет!..
Она говорила, не забирая своей теплой энергичной ручки из его большой сильной ладони и как-то особенно, исподлобья глядя ему в лицо. Она все еще знала себе цену, умела показать, подать себя. Золотистые пышные волосы, открытый светлый лоб, черный росчерк бровей, большие голубые глаза, припухлые, зовущие губы… Глазом мужчины, для которого давно уже миновала пора волнующих юношеских тайн, Леня, как ему казалось, незаметно окинул ее всю, от светлого лба до маленьких туфелек и — снизу вверх — еще раз… Пополнела только за эти тринадцать лет. Под светлым, словно не без умысла расстегнутым плащиком виднелась темно-синяя кофточка и красная вельветовая юбка, скрывавшие явную, не крикливую и весьма привлекательную пышность породистой женщины, которая тоже оставила позади наивную пору юности.
Да, она все еще знала себе цену.
И вот, добиваясь, может быть даже невольно, всегда желанного успеха, разбудила в нем давнее, молодое…
Однако, пока они разговаривали, во взгляде ее, с которым он то и дело встречался, Леня видел не только испытанное кокетство, но и некоторую, не слишком замаскированную насмешку. Ты можешь и вспоминать что угодно, кажется, без слов говорила она, и думать обо мне как хочешь, со злостью или презрением, а мне ты теперь ничего не сделаешь. Я уже не та, кем была когда-то, и за спиной у меня целое государство, которое защищает меня своим — для тебя иностранным — паспортом, неприкосновенным положением гостьи, туристки. А ты можешь думать!..
Они стояли в тряском кузове, опираясь на серый брезент кабины. Упругий весенний ветер — с легким запахом распаханной земли и первой зелени — бил в лицо, даже глаза застилало теплой слезой. На выбоинах трехтонка так подскакивала, что им невольно хотелось ухватиться друг за друга, особенно, как показалось Лене, ей. Они говорили из-за ветра громко, широко, словно тоже из-за ветра, улыбаясь, и у Лени в душе вместе с давним, вновь разбуженным волнением перед ее красотой, то глохло, то нарастало такое же давнее чувство обиды и гнева…
Ольшевич, чужой в их деревне, кажется, не знал, кого везет: Хомич, видно, не рассказывал ему там ничего — машина шпарила прямо на Углы.
Леня уже собирался, когда показалась развилка, постучать по брезенту, но его опередил Хомич. Трехтонка остановилась. Конюх отворил дверцу, выставил румяное мурло под «вислоушкой» и, пряча улыбку, пробасил:
— Паненку надо, видать, под самое крыльцо?
— Дзенькуе бардзо! — улыбнулась она и почти совсем «по-простому», «па-тутэйшему», как подумал Леня, добавила: — Я заплачу панам иле тшэба. Бо вализки мое заценжке [37].
— Дзенькую бардзо! — поклонился Хомич. — Хоть злотый какой… Хоть на соль…
Прикрывая раздражением неловкость, Леня поморщился:
— Будет кривляться! Давай на Устронье.
— Ну что ж, бог в помощь!
Хомич был навеселе. Он хохотнул и, подмигнув Лене, стукнул за собой дверцей.
Машина повернула направо.
3
Бывшее имение Устронье упоминалось когда-то в книге «Поместья и помещики Минской губернии», и последний владелец его Ян Янович Росицкий значился там как дворянин польской национальности, православного вероисповедания, а следовательно, что вытекало из неглубокого подтекста, и полной «благонадежности». «Благонадежность» досталась ему по наследству от отца, который после восстания 1863 года из страха перед муравьевскими репрессиями принял православие.
Весной двадцать первого года, вскоре после заключения Рижского мира, когда вокруг Устронья окончательно утвердилась панская власть, в душе пани Геновефы Росицкой созрело решение вернуться всей семьей «в лоно веры отцов», которой она служила и до того, но тайно. Ян Янович сперва противился, даже, как это было у него в привычке, отбивался мужицкой бранью, однако в конце концов приказал запрячь бричку и поехал с пани и детьми в костел. Спустя год после этого события пани Геновефа родила пятого ребенка — дочку Чесю, которая сразу вошла в новую, свободную от безбожников жизнь римско-католическим ангелочком — светленьким, полненьким, с большими голубыми глазами.
Пан Ян перестал, правда, по русскому обычаю называться Яном Яновичем, но в костел заходил весьма редко. Куда охотнее заглядывал он в Борухову корчму в гминном [38] местечке Горилица или в ресторан пана Гжибка в уездном городе. При содействии этих заведений и достопамятного экономического кризиса, который в начале тридцатых годов вымотал Польшу основательнее, чем любое из государств буржуазной Европы, поместье Устронье, один из опорных пунктов шляхетско-ксендзовского строя на «восточных окраинах», медленно и верно клонилось к упадку.