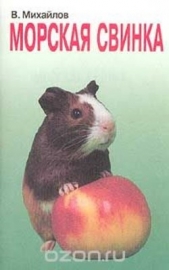Повести

Повести читать книгу онлайн
Янка Брыль — видный белорусский писатель, автор многих сборников повестей и рассказов, заслуженно пользующихся большой любовью советских читателей. Его произведении издавались на русском языке, на языках народов СССР и за рубежом.
В сборник «Повести» включены лучшие из произведений, написанных автором в разные годы: «Сиротский хлеб», «В семье», «В Заболотье светает», «На Быстрянке», «Смятение», «Нижние Байдуны».
Художественно ярко, с большой любовью к людям рассказывает автор о прошлом и настоящем белорусского народа, о самоотверженной борьбе коммунистов-подпольщиков Западной Белоруссии в буржуазной Польше, о немеркнущих подвигах белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, о восстановлении разрушенного хозяйства Белоруссии в послевоенные годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, коли ясно, так вставай.
— И-эх! — вскочил Максим. Он запрыгал на месте, босиком по росистой траве, в одних трусах, замахал руками. — И раз, и два, и три! Как же о-на тут, на-ша пар-ти-зан-ская Москва?! Гляди, — остановился он. — Ты только погляди, брат! Куда ж это, скажи на милость, подевались все художники?
Острова — красивая деревня. Отстроилась после войны. Ее в партизанские дни, как и многие другие села, где размещались отряды, лесные хлопцы называли Москвой. Сады и новые хаты раскинулись по обоим берегам Быстрянки, которая тут становилась шире. Хаты — не просто тяп-ляп, а обшитые тесом, с резными белыми и голубыми наличниками. Красные мальвы выглядывают из-за низких штакетин палисадников перед хатами, а по стенам зеленой сеткой выше окон вьется плющ. А сколько деревьев! И в садах, и на улице, и над рекой.
— Хорошо, правда? — спросил Максим. — Столбы и лампочки будут тут вполне кстати. Смотри, не хватает только, чтоб какая-нибудь островецкая красотка вышла на мостик. Такая румяная, тепленькая со сна. И чтоб улыбнулась. Что ты мне на это скажешь?
— Надень штаны, а то неловко будет. Ну, живо! Утки только что проснулись, и рыба завтракать собирается.
«Способ предков» на этот раз дался легче. Лодку перетащили через дорогу у моста без особых усилий. И вот она поплыла мимо огородов, деревьев и хат, в большие чистые окна которых заглядывала заря.
Течение Быстрянки почему-то снова ускорилось, словно река пошла по крутому уклону.
— Вот тут, брат, опять помчимся, — повернулся к Толе Максим. — Помнишь, где была прежде княжеская мельница? Полицаи взорвали ее. Во время блокады. Как раз здесь и будет колхозная ГЭС. Сейчас мы пойдем, как на Днепровских порогах.
И правда. Невдалеке, за крутым поворотом, Быстрянка разделялась на два рукава. И в каждый из них воду тянуло, как в воронку.
— Плакала твоя лодка, писатель! — крикнул Максим. — Левей, левей, бери!
Толя повернул по команде. Весело! Шумит, мчится вода, а где-то там, за деревьями правого берега, словно наигрывая марш, задорно гудит движок и звенит циркулярка. Горло воронки стало еще уже, старую лодку, не очень-то привыкшую к таким передрягам, рвануло вперед и, как с порога, шлепнуло днищем на глубину. Еще десяток метров быстрины, и рукава речки, вырвавшись из-за острова на раздолье, соединились. Быстрянка стала понемногу утихать, как бы чувствуя уже всю важность момента — свое слияние с могучей рекой.
Неман открылся их взорам торжественно-тихий, величественный.
За его широкой зеркальной гладью виден был пологий берег, а дальше на фоне заревого неба синей пилой — лес на горизонте. Мир голубых, розовых, зеленых красок тихого утра, роскошный мир воды, травы и солнца.
— Эх, красота! — воскликнул Максим. Он выпрямился во весь рост.
Толя тоже встал. После тяжелого весла ему захотелось вдруг взмахнуть руками и полететь над водой, как летают стрижи, или подскочить и бултыхнуться в эту голубую и розовую глубь, как бобр.
А чайка уже шла сама, подхваченная почти незаметным могучим течением спокойной на вид реки.
— Ж-жу-рав-ли! Сядь! — сдавленным голосом скомандовал Максим.
Слева открылся широкий плес.
На светлом песке отмели стояли журавли. Много — может быть, больше сотни. Воспетые в тысячах песен и стихов, они стояли тихо, как на молитве, в торжественном раздумье и созерцании.
— Попытаю счастья, — шепнул Толя.
Хлопцы, согнувшись, поменялись местами.
Горячая рука Толи осторожно и жадно сжала холодную сталь двустволки.
Шли без весел, кажется, даже не дыша.
«Пора или рано?.. Пора или рано?» — тревожно спрашивал сам себя Толя, и сердце его билось, кажется, только чуть тише далекого, но слышного еще движка. «Пора… Взлетят, дурак… Пора…» Холодные, блестяще-серые стволы поднялись. Мушка осторожненько поползла по воде к ногам одной, все так же тихо стоящей, обреченной птицы. И — удивительное дело! — хотелось даже попросить ее: «Ну, не взлетай, пожалуйста», как будто он в самом дело испытывал к ней нежность и сочувствие…
Грянул выстрел!..
— Эх, мазила!..
Журавли, тяжело взмахивая крыльями, взлетели. На фоне воды и небесной лазури хорош он — могучий, вольный журавлиный взлет!
— Утиной дробью. И далеко было, — смущенно улыбнулся Толя.
— Ранил, дурень, смотри, — почти шепотом сказал Максим, глядя вслед улетающей стае.
Журавли развернулись в клин.
Сзади один заметно отставал, старался подняться выше, пристать к строю товарищей.
Послышалось тоскливое курлыканье, печальный крик…
— Эх!.. Ну и что ж, — как-то невольно вырвалось у Толи.
И вдруг он вспомнил руку Сашки, в которой не оказалось конфетки, его улыбку, глаза и эти же вот слова: «Ну и что ж».
Но тогда они звучали совсем по-другому.
И чувства, которые они вызывали, ничуть не похожи были на эту горькую неловкость.
— Ничего, стрелок, — сказал Максим. — На первый раз прощаем. А ведь грешно, старики говорят. Посмотри, как он борется. А как кричит! Сядет. Это тебе, браток, не песня. Ясно? Может, и поправится до перелета. Ну, садись сюда, а я попытаю счастья без лишнего шума.
Над водой вскоре послышался многообещающий свист шнура и осторожный всплеск блесны.
…Щука наконец попалась.
Радости, правда, было значительно больше, чем живого веса. Но когда на дно лодки упала зеленовато-серебристая добыча — первый дар матери-природы, — хлопцы вдруг сразу вспомнили про голод.
— Не жадничай, Максим, — сказал себе спиннингист. — Дай бог памяти, мы, кажется, со вчерашнего обеда не ели. Правь к привалу.
И вот на песчаном, покрытом редкой жесткой травой берегу, заросшем кустарником, потрескивает огонь, и пламя его, бледное под утренним солнцем, старательно грызет лозовый сушняк.
Почищенная и разрезанная на куски щука из красивой стремительной рыбины превратилась в обыкновенное прозаическое мясо. Ухи, в подлинном смысле этого вкусного слова, не получится: будет картофельный суп, так, какое-то ушицеподобное варево в чугунке, а на сковородке — по доброму куску щурятины. Кипит, булькает вода, старательно ворочая ломтики картошки, а скоро зашкворчит, по-домашнему запахнет сало с луком — подтверждение того, что берег этот со всей своей, казалось бы, дикой красотой обжит властителем земли.
У костра священнодействует Максим.
Толя собирает хворост. Опять уже в одной белой майке, с растрепанным светлым чубом, он, задумавшись, стоит в лозняке и словно молится, как журавль, утреннему солнцу. Вокруг — необъятные просторы под бездонной глубиной неба, а Толя видит мостик и на мостике — ее… Она уже встала, она уже идет по воду или за грибами, — залитая солнцем, такая родная и милая со сна, а в глазах у нее — счастье, их нераздельное счастье…
«Как хорошо, — думает Толя, вбирая полной грудью душистый необъятный простор. — Если б ты знала, как хорошо!..»
Вот только печальный крик — уже давно неслышное, но оставшееся с ним курлыканье журавля — снова звучит в его душе…
Вслед за курлыканьем возвращается вчерашнее безжалостное «отчего?».
И еще: радость Люды, той, на мостике, что живет в его воображении, сменилась реальной грустью в ее глазах — такой он, отплывая, оставил ее на гребле…
«И за что я обидел тебя? Да так сразу!.. К чему этот каприз, эта поза? После того бегства с мельницы хотелось еще раз бежать — на этот раз с тобой? От себя самого?.. А вчера ты, бедняжечка, уснул в тепле, не хватило тебя, чтоб поговорить с человеком, разделить с ним радость работяги, солдата!.. Кто же ты такой — мальчишка или ничтожество?..
Зачем они — мой страх, а потом эта боль? Надо смотреть правде в глаза. Зачем грусть в твоем взгляде и мои глупые капризы? Не нужно все это — так же, как бедность, что рождает горькие и справедливые «отчего», как мой глупый, бесчеловечный выстрел и этот надрывный, одинокий журавлиный крик!..
Пускай все будет хорошо, пускай мы, как Сашка, разделим нашу радость со всеми…
Ну, а почему бы мне сейчас не поделиться ею с Максимом? Ты считаешь, чудак, что сам он ничего не знает, не догадывается? Не сухарь же он, как ворчит старик, не засушила же его наука. И о ком он думал, когда говорил о той, что, залитая солнцем, придет на мостик? Может — о своей любимой, что ходит где-то по росным стежкам над другой рекой?.. Неужели он скрывает это от меня? А я вот пойду и скажу».