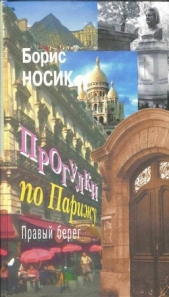Возврата нет

Возврата нет читать книгу онлайн
В книгу, кроме «Сурового поля», вошли повести «Эхо войны» и «Возврата нет», удостоенные Государственной премии РСФСР имени М. Горького.
В них писатель раскрывает органическую связь между повседневным трудом советского человека и его недавним героическим прошлым в годы Великой Отечественной войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И, откровенно оказать, он не слишком-то обрадовался, уже поставив на подножку машины ногу, когда его заставил обернуться женский голос:
— Если вы, товарищ Егоров, ищете Каширину, то это я и есть.
В калитке стояла крупная смуглая женщина с лицом, освещенным насмешливыми серыми глазами.
В этом месте Егоров, прерывая свой рассказ, виновато взглянул на Никитина.
— Вы меня извините, Николай Яковлевич, но я не думал, что ваша… бывшая жена совсем еще не старая женщина. Я, признаться, думал… — Скулы у Егорова покраснели, и он, не закончив какой-то своей мысли, продолжал — А она, оказывается, еще не только не старая, но и просто красивая женщина.
Все увидели, как краска, прихлынувшая при этих словах к его лицу, как будто передалась на лицо Никитина, но еще более густая. Так, что на него невозможно стало смотреть. Все невольно отвели глаза, только Антонина Ивановна Короткова презрительно покосилась на него:
— Красивая, Алексей Владимирович, это не то слово. Да разве вам, мужчинам, настоящая красота нужна…
И, выпрямляясь на стуле, она сама строго приосанилась. Корона темных, лишь слегка седеющих, волос венчала ее голову, ее лицо со все еще удивительно живыми и чистыми серыми глазами.
Должно быть, правильно определив причину удивления Егорова и сторонясь в калитке, пропуская его во двор, Каширина пояснила:
— Вы меня не знаете, а я вашу машину давно приметила. И Никитин мне о вас рассказывал. Да цыц ты! — прикрикнула она па большую рыжую собаку.
И это было то единственное упоминание о Никитине, которое Егоров услышал от нее в тот день во время их встречи. Потом она уже сама ни разу не вспомнила о нем прямо. Егоров шел за ней по тропинке, по чисто выполотой и разглаженной граблями земле в глубь двора и, взглядывая на ее крупную, статную фигуру, на спокойную легкую походку, все больше внутренне удивлялся.
В глубине сада стоял покрытый голубой клеенкой стол. Под деревьями, на которых уже почти не оставалось листвы, рыжели на земле пятна осеннего солнца.
— Садитесь, — сказала она, указывая ему на табуретку и берясь за ручку кувшина, прикрытого полотенцем. — Сейчас я принесу из погреба вина. Я тоже с вами выпью.
Теперь, сидя против нее за столом, на котором стоял кувшин с вином, он мог рассмотреть ее лучше. Может быть, больше всего поражали ее глаза. Вот уж чего меньше всего ожидал он увидеть в них, так это насмешливости. И если бы не проглядывало иногда сквозь нее что-то другое, какая-то темь, ни за что нельзя было бы поверить, что у этой женщины есть основания считать себя несчастливой.
Под ее взглядом он сразу же понял, что она догадалась об истинных причинах его посещения и поспешил ухватиться за первое подвернувшееся оправдание: он давно уже собирался побеседовать и посоветоваться с ней, как с одним из самых опытных виноградарей: в районе.
— Что ж, можно и побеседовать, — спокойно согласилась она, отпивая из стакана вино мелкими глотками. — Хоть я уже и отстала, да и вы, конечно, приехали ко мне не за этим.
У Егорова стакан с вином вздрогнул в руке. Поспешив отхлебнуть из него, он поперхнулся. Вино сохраняло холодок погреба и привкус дубовой бочки.
— Ну да я и сама давно уже к вам собиралась.
У него так и отлегло от сердца. Вот и не потребуется искать каких-то подходов, окольных путей. Это же совсем другое дело, чем когда человека насильно вызывают на откровенность, тянут за язык, и после этого всегда остается неприятный осадок. Будто бы заглянул: в замочную скважину и твоя же собственная совесть застала тебя за этим нехорошим занятием.
Она поставила стакан на стол, улыбнулась:
— Только не за тем, за чем вы сейчас подумали. За этим я к вам не собиралась и ни к кому не приду. Вы, должно быть, от Антонины Ивановны Коротковой слыхали обо мне?
— И от нее.
— И про то, как я по своей собственной дурости из партии выпала?
— Немного и об этом, — кратко ответил Егоров.
— Вы только не подумайте, что я обратно попроситься хочу Я знаю, что так сразу это не делается, да и дело это очень давнее уже. Но и жить вот так же дальше я не хочу, нельзя мне. Вы же сами видите, как я живу. Одна. — И, снова отхлебнув из стакана, пил поставила его на стол. — А того, что вы думали, чтобы я пришла жаловаться в райком или в обком на свою разнесчастную судьбу, этого не будет. Я, товарищ Егоров, когда с ним слюбилась, ни у райкома, ни у обкома не спрашивалась, и теперь мне из-под вашего кнута его любовь не нужна. Я, слава богу, пятнадцать лет с ним счастливой было, и на том спасибо. У других женщин и этого не было. Может, все это теперь мне в наказание за то, что слишком радовалась своему счастью, когда крутом еще столько горя. Может, так и надо мне за то, что стала я совсем незрячей и сытой своим счастьем. И чтобы он теперь вдруг из благодарности вернулся ко мне — этого тоже мне не нужно. Чтобы он жил со мной, а думал о ней?! Да что я, тюремщица, что ли?!
Чем больше смотрел на нее Егоров и чем дальше слушал ее, тем больше думал, что Никитин, отказавшись от нее, от чего-то такого отказался в своей жизни, чего уже не сможет возместить ему никто другой. Никакая другая женщина уже не сможет заполнить ему эту потерю.
Давно молчал Егоров. Молчали члены бюро. Как врезанная в раму картина — сверху в светлую голубизну неба, а снизу в темную, почти зеленую синеву Дона и Донца — обозначался в окне Красный яр.
— И такую женщину на какую-то побрякушку променять, — нарушил молчание Федоров. — Я бы на его месте ей всю жизнь ноги мыл.
Никитин сидел на своем месте, едва виднеясь из-за шкафа, наклонив мелкокурчавую медную голову. Егоров строго заметил Федорову:
— Тебе бы, Виктор Иванович, со своими формулировками надо подождать.
На мгновение Федоров смутился под его укоризненным взглядом, но тут же нашелся:
— Мы еще не знаем, что обо всем этом думает директор школы, товарищ Пашков. А он здесь не совсем постороннее лицо. И на бюро мы его сегодня пригласили не для того, чтобы с ним тут в молчал и играть. Как, по его мнению, все это выглядит с точки зрения этики и морали советского педагога?
— Да-да, Максим Максимович, мы бы попросили вас, — сказал и Егоров.
Маленький, с большими залысинами, директор бирючинской школы Пашков, все время молча сидевший у самой двери, встал, выпрямился. Уже давно минуло то время, когда и он, подобно другим фронтовикам, донашивал свою военную форму, но и свой гражданский учительский пиджак он продолжал носить так, как будто на нем все еще был надет его офицерский китель. И теперь, по привычке выпрямляясь, он незаметно одернул пиджак.
— Что вы, Виктор Иванович, конкретно имеете в виду? — спросил он у Федорова.
Федоров рассердился:
— Конкретно я имел в виду крайне низкий уровень идейно-воспитательной работы во вверенном вам педагогическом коллективе.
Директор чуточку побледнел, еще больше выпячивая под пиджаком грудь.
— Я бы все-таки попросил вас, Виктор Иванович, пояснить. Если вы интересуетесь моим мнением об Ирине Алексеевне, как о педагоге, то лично у меня к ней претензий…
Негодующе перебивший его голос Федорова сорвался на крик: — Гнать надо таких педагогов, пока вам, товарищ Пашков, еще не повесили на школу красный фонарь. А заодно с ними гнать и некоторых сердобольных директоров школ, которые…
Он осекся, увидев как при этом вдруг встал со своего места и, нагнув голову на тугой шее, шагнул из своего угла на середину кабинета Никитин. Только что малиново-красный, он стал алебастрово-белым.
Егоров поспешил вмешаться:
— Вам бы, Виктор Иванович, следовало от своих оценок воздержаться. Вы все-таки на заседании бюро райкома, а не у себя дома.
Никитин еще немного постоял и опустился на стул — на свое место за шкафом. И тут вдруг все неожиданно услышали, что у тщедушного директора бирючинскои школы бас еще более густой, чем у того же Фролова. Услышав этот бас, все поняли, что недаром директор школы Пашков носит свой учительский пиджак так, как если бы он все еще продолжал носить офицерский китель: